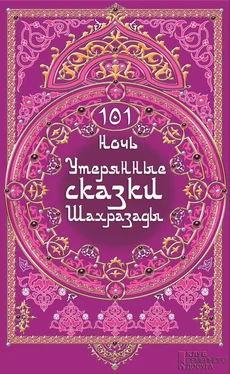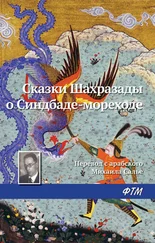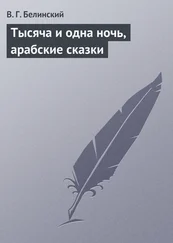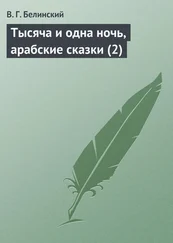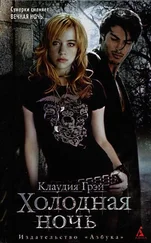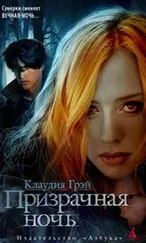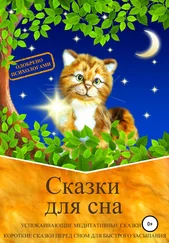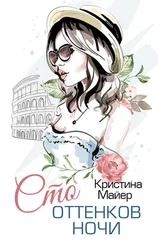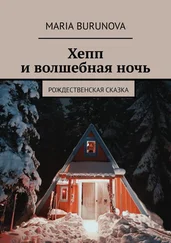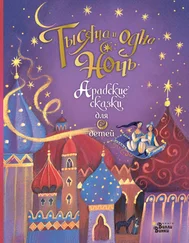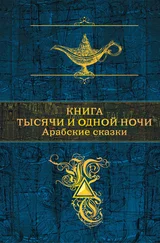Загадки загадывает и «Страна Шаров» в истории о Сулеймане ибн Абдальмалике. Как мы должны представлять себе эту страну? Арабский термин ( зирр, азрар ) обозначает не шары в виде катящихся мячей, а выточенные или кованые декоративные шары на концах опорных столбов в шатре. Таким образом, это порожденное фантазией обозначение вызывает перед мысленным взором некую страну, плотно заставленную шатрами с шарами на концах столбов.
Еще один загадочный и проблемный случай касается несколько более конкретной географии. В истории о Камфарном острове один старый мореплаватель рассказывает о своих путешествиях по миру: он повидал страны Синд и Хинд – причем оба эти географические названия в оригинале рифмуются, так же как Китай (по-арабски билад ас-Син ) и загадочная страна с названием Аль-Кастин. По всей вероятности, это название также выбрано или переделано ради рифмы, поскольку с окончанием – ин оно прекрасно рифмуется с ас-Син («Китай»). Только вот ни в одном из известных мне географических источников не обнаружено названия местности с таким звучанием. Таким образом, это название, скорее всего, возникло как результат описки или «обалгорнивания». Но какое же название подразумевалось первоначально? После длительных поисков я пришла к следующему выводу: это слово возникло, вероятно, из названия Филастин – «Палестина» из-за описки, при этом выпала буква «лям». Название Филастин рифмовалось бы с ас-Син (Китай) и в этом отношении придавало бы смысл этой риторической конструкции. Ведь речь идет о том, чтобы в рифмующихся между собой парных названиях – Синд и Хинд, Китай и Палестина [51]выразить весь простор огромного мира. Этот выбор поддерживается, помимо прочего, еще и тем, что в книге по географии Зухри, которая дошла до нас в том же сборнике рукописей, что и «Сто и одна ночь» , и была записана тем же переписчиком, страны Синд, Хинд, Китай и Палестина называются почти в том же порядке, по крайней мере, в той же главе о делении мира на регионы [52].
В конце концов, там, где без этого не обойтись, можно даже создать в переводе новое слово. В «Ста и одной ночи» это касается сочетания «мальчик-слуга» (по-арабски гулям), пандан мужского рода к хорошо знакомому выражению «девушка-служанка», то есть такого слова, которым одновременно обозначается как молодость, так и положение слуги. В разных местах текста я переводила это слово как «паж», но каждый раз там, где слово «паж» звучало слишком благородно для данного контекста, я использовала сочетание «мальчик-слуга».
Цитаты из Корана и понятие «Бог»
Цитаты из Корана переносились с опорой на новый перевод Корана Хартмута Бобцина, чаще всего даже брались оттуда дословно [53]. Как в этом переводе Корана – и как в «Тысяче и одной ночи», – так и в «Ста и одной ночи» Аллах также переводится словом «Бог». Поскольку здесь ведь речь идет не о собственном имени какого-то специфического исламского Бога, а о единственном и действительном для всех регионов понятии Бога. Поэтому в «Ста и одной ночи» написано не «Хвала Аллаху», а «Хвала (Господу) Богу».
Ошибки в рукописи
Переписчики или копировщики повествовательной литературы занимают в передаче арабских текстов особое положение: даже когда они просто копировали письменный образец, они не чувствовали себя так рабски привязанными к этому образцу, как это имело место, например, с научными или теологическими трудами или тем более со священными текстами. Тем не менее при переписывании они, как правило, не импровизировали, то есть не генерировали активно и самостоятельно новые версии, а напротив того, занимали скорее несколько небрежную позицию по отношению к тексту. Это приводит к типичной для повествовательных текстов широте вариантов, которая для «Тысячи и одной ночи» была описана таким образом: «Несмотря на менее дословную передачу, стремление копировщиков к переменам только в единичном случае является достаточно обширным, чтобы говорить о сознательном оформлении текста и о вытекающей из этого самостоятельной редакции. Передача текста определялась скорее механическим переписыванием, чем продуманной, творческой обработкой» [54].
«Сто и одна ночь» представляет собой замечательный образец такого рода письменной передачи арабской повествовательной литературы. Переписчик рукописи из музея Ага-Хана, Абдаллах ибн Абд аль-Мавла ан-Надджум, переписал текст с какого-то уже не дошедшего до нас образца. При этом обнаруживаются обычные для арабской повествовательной литературы и передаваемые из поколения в поколение потери: переписчик пропускал то или иное слово, зато иногда вставлял другие слова дважды. Так же и в отдельных словах бывает полно ошибок, пропущены буквы, согласные искажены, и в результате – конечно, неумышленно – возникают такие курьезные словесные новообразования, как, например, аль-Баракима (вместо аль-Барамика , «Бармакиды») или аль-Маалика (вместо аль-Амалика , «амалекиты»). Кроме того, наш переписчик пользуется довольно-таки свободной орфографией, почти регулярно путает некоторые согласные, а также записывает долгие гласные краткими или краткие долгими. Поэтому их пришлось совершенно естественно исправлять и не учитывать при переводе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу