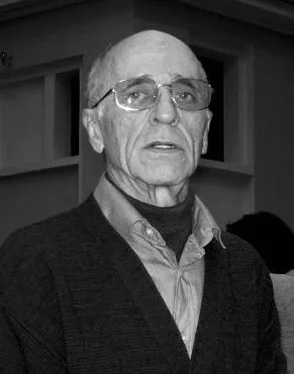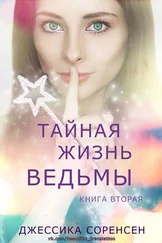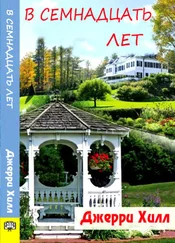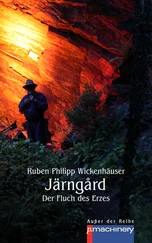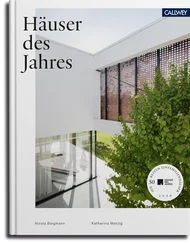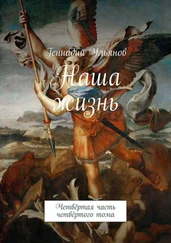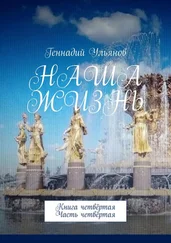И каждый из них, златопёрых, был символом деловитости, раннего подъёма,
неусыпности, бесконечной хлопотливости и проникновения в суть бытия и быта родового
имения Поэта.
Пушкин сам поначалу бурно тосковал в этом отдалённом от центра «медвежьем углу».
Отец не стал другом ему в этой дали. Присутствие семьи не смягчало суровости наказания
изгнанием.
Он чувствовал себя в опале. И поутру отправлялся на своём буром аргамаке в леса и
поля.
Вот оно – раздолье, освобождающее сердце от обид и душевных болей! Сосновые рощи и
луга, отлогий берег Сороти, любимый дуб, одиноко стоящий на невысокой горке.
Часто Пушкин устремлялся в поля и леса пешком, босым, без городской одежды,
простоволосым. Лес и деревня были Его кабинетом. Здесь рождались строки его поэм и стихов.
И воздух заповедника сохранил отзвук настроений Поэта:
ЛЁГКОСТЬ ПОЭТИЧНЫХ НОТ
Деревня – вот мой кабинет,
Деревья, травы, птицы, звери.
По-деревенскому одет,
291
Обычаям деревни верен,
Босым любил бродить по лесу,
Без галстука и сюртука,
И видел, как сквозь облака
Ко мне спускается строка, –
Благодарение Зевесу!
И вскоре мыслей пёстрых ворох
До края полнил мой блокнот:
И шум ветвей, и листьев шорох,
И лёгкость поэтичных нот
В глуши звенящих птичьих хоров.
Сегодня все времена и пространства, кажется, соединились в едином порыве: поведать,
как откликается на зов сердца Поэта каждое дерево, река, соловей, вся аура лесов и полей, где Он
жил, творил, гулял, тосковал, влюблялся.
Изучая творчество Поэта, быт старых поместий, Природу, вкладывая неисчислимые
усилия в дело восстановления усадеб и воссоздавая истинно пушкинский колорит в этих местах,
Гейченко вправе был сказать:
«Пушкин родился дважды: первый раз – в Москве. А вторично – здесь, в Михайловском,
как зрелый мастер Слова, как мыслитель, художник, философ.
Народным Поэтом Он стал здесь, когда увидел труд земледельца, его каторгу, его хлеб,
его корову, его могилы, его дух, услышал народные песни, увидел скитания народа, узрел
древние границы своего государства. Всё это на него обрушилось…»
Здесь всё было созвучно с состоянием Пушкинской Души и всё принадлежало Ему без
остатка. Он понимал лепетанье голубой Сороти, журчанье ручьёв, шелест листьев, чувствовал
«трав прозябанье», словом – всё, сущее здесь.
И тоска эта сказалась в чудесной элегии «Вновь я посетил», возникшей в 1835 году, когда
Поэт вновь посетил Тот уголок земли, где Он провёл изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня.
И сам, покорный общему закону,
Переменился я. Но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо.
И, кажется, вечор ещё бродил
Я в этих рощах. Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых,
Ни кропотливого её дозора.
В этой элегии Пушкин шаг за шагом открывает перед нами все дорогие ему места. И мы
видим это всё как будто своими глазами: и лесистый холм, и озеро, и дорогу, изрытую дождями, и
три сосны, шум вершин которых приветствовал Его при свете лунном.
Это было за два года до гибели Поэта. А к концу 19-го века памятные сосны погибли.
Об ураганах, которые налетали на заповедник, Гейченко говорит: «Я убеждён, что тёмные
силы, желающие уничтожить здесь всё, что напоминает о Поэте, вторгались в эти буйные вихри,
– они были беспощадны. Свирепость ураганов была ужасающа. А после лес полнился
буреломом, борьба с которым предстояла нелёгкая».
Когда буря сломала последнюю сосну, – а это было уже в конце 19-го века, – сын
Пушкина Григорий Александрович, с болью в сердце, приказал срубить её, потому что острый
остов её стал опасен для людей.
Он сделал брусочки-сувениры и разослал их по родственникам и друзьям.
Копии снимков останков последней пушкинской сосны были разосланы по музеям.
И сейчас со страниц книжечки Гейченко «В стране, где Сороть голубая» смотрит на нас
как будто с укоризной печальный обломок последней Пушкинской сосны. Но роща говорит нам
об этой сосне:
292

СОСНА
Как женщина с подъятою рукою,
Как однокрылый ангел над страной,
Где Сороть с голубой своей волной
Звалась Его единственной рекою,
Читать дальше