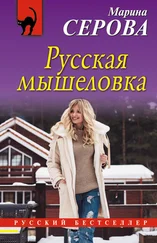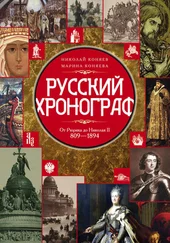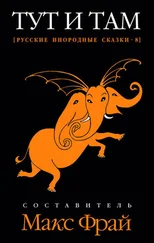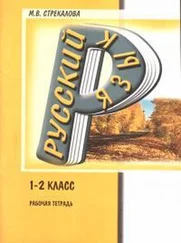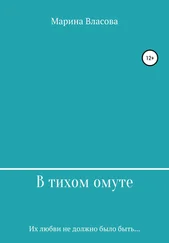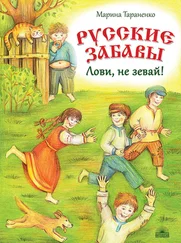«Ангелы-черти», упавшие на воду, стали водяными, на леса – лешими, на дома – домовыми и пр. В этой христианизированной, возникшей достаточно поздно легенде переосмыслены сложившиеся ранее представления о лесных, водяных, домовых и прочих духах отнюдь не небесного происхождения.
По рассказу, записанному в Саратовской губернии, черти возникли из плевка Бога. Появление чертей связывается и с Сатаной: «Происхождение чертей народ считает от Сатаны, а Сатана уж так весь свой век живет не переводится» (новг.) .
Традиционный облик черта (там, где он более или менее отличен от иных представителей нечистой силы) в общем наследует бесу (см. БЕС): это черное (синее, темное) мохнатое существо, с крыльями и хвостом, с когтями, рожками и копытцами. Глаза его горят как угли, голос зычный, сиплый, «каркающий». Он может быть кривым, хромым, лысым (с остроконечной, «шишом», головой), с гусиными пятками.
По мнению ряда исследователей, образу беса-черта, напоминающего фантастическое животное, предшествовал (или сопутствовал) образ обнаженного женообразного юноши с женскими (часто поднятыми над головой и спутанными) волосами. Такой облик прослеживается в памятниках древнерусского и средневекового искусства. Ф. И. Буслаев полагал, что лишь «миниатюристы XVII в. смелее стали обращаться с личностью беса. Демон старинной живописи даже был не страшен по своему виду, а пугал только идеею вечной гибели. Мастера XVII в. стали намеренно ухищряться в вымышлении отвратительных очертаний бесовских фигур…» 〈Буслаев, 1886〉.
Для крестьянских поверий XIX–XX вв. характерен облик черта – фантастического существа, склонного к причудливым метаморфозам. «Черт видится „деталями“: ноги в шерсти, руки с когтями, крылья, коровья голова» (владимир.) 〈Завойко, 1914〉. Он «каркает вороном, стрекочет сорокой», способен принять какой угодно вид – «животного с черной шерстью, человека с рожками» (волог.) . Черти являются людям «в разных видах, смотря по цели. Если нечистому, черту, надо испугать человека, то он является в виде страшного зверя; если „самустить“ (совратить) на худое дело – в виде человека; коли подурачиться, поглумиться над людьми – то в виде кошки, собаки и т. д.» (новг.) 〈АРЭМ〉. «И леший такой же черт. Они везде, их много видов. Они и с хвостиком, и с крылышком, и без спины, в любом обличье выйдут, и в человечьем… Хоть в кого может превратиться. И летучие есть» (новг.) 〈Черепанова, 1996〉.
Черт обращается в мышь, змею, лягушку, рыбу, сороку, свинью, козлика, барана, овечку, лошадь, зайца, белку, волка; в клубок ниток, ворох сена, камень 〈Максимов, 1903〉. Как и бес, дьявол, он оборачивается змеем. Образ змея «был очень удобным для символизации духа зла: он говорил о его мудрости, изворотливости, отвратительности и слабости» 〈Рязановский, 1915〉.
Излюбленное обличье черта – вихрь. Вихрь – черт, играющий с ветром; если вскочить в круговорот вихря и воткнуть нож в землю, то зарежешь черта, на ноже появится кровь (орл.) . Черт способен принять непонятный и страшный облик. «Лукавый, или черт, кажется, по народным поверьям, в разных видах… В деревне Княжая крестьянин Иван Шурыга занялся гонкой дегтя: „Гоню я деготь в Страстную субботу, не хотелось мне бросить, и я остался на ночь. 〈…〉 Сидеть до полуночи в истопке мне показалось страшно, и я вышел к огню из истопки. Сижу у огня и вижу, что ко мне быстро катится как копна огненная. Докатилась до истопки, отворила дверь в истопку и говорит: «Сдогадался-таки, ушел!» – и укатилась от истопки. Я так испугался, что давай Бог ноги! Бог с ним и с дегтем!“ Соседи уверяют, что в истопке его бы непременно задавило» (Новг., Белоз.) .
Черт оборачивается человеком – монахом, священником; странником, солдатом. В уральском повествовании черти – «барыни в немецких платьях, в шляпках, с зонтиками и офицеры с гитарами» – «и у тех, про́клятых, вместо ног торчат – у кого лошадиные же копыты, у кого звериные лапы, а у одной барыни из-под платья и хвост виден, закорючился, словно у собаки» 〈Железнов, 1910〉.
На Владимирщине полагали, что черти – «такие же люди, но нерусские, неаккуратные и неуклюжие».
В поверьях конца XIX – начала XX в. облик черта осовременивается. «Случилось мне прийти в правление в пятницу, и я увидел там старушку какую-то в коридоре, – сообщали в 1898 г. из Тихвинского уезда. – Спрашиваю: „Что тебе, бабушка?“ – „А что, кормилец, выдают проценты?“ – „Выдают. А где у тебя книжка?“ – „Да что, кормилец, ходила помолиться Царице Небесной, да черт навстречу попал, я и узелок оставила… 〈…〉 Да сидит на двух колесах, да как ветер дунул, он и уехал. Я и думаю, что ходила помолиться за грехи свои, а тут черт навстречу“. Я ей говорю: „Бабушка, это, верно, барин на велосипеде“. – „Ох ты, родной мой, да его, черта, нашему барину на тройке не догнать“» 〈АРЭМ〉.
Читать дальше