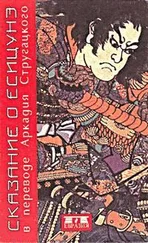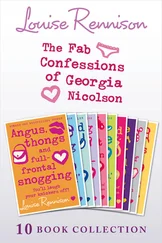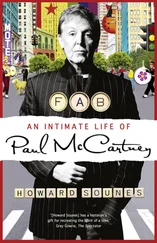Задумавшись о чем-то своем, я придал его словам так мало значения, что забыл о них мгновенно. Но что-то вспомнилось сутки спустя, когда мы похмелялись в какой-то хибаре на берегу Байкала. Лучшее…
Саблезубые коты из моего журнальчика придумали бы тысячу страшнейших проклятий на счет этой ереси, но бродя по февральскому льду залива, я пытался убедить себя в обратном и не нашел ни одного убедительного довода против очевидной детали: искусство развивается вопреки христианству, и человек - вопреки человечеству. Что ренессанс не нуждался в инквизиции, а Рим - в Аттиле. Смешение, внутренний рост могли происходить столь же плавно, как и раньше…
После я потерялся. Лауре срочно затребовались деньги и я спешно чем-то торганул, впарил кучу макулатуры гениям местного дилерства, одним из тех, кто уверен, что продать можно хоть черта лысого. Антон сказал, что
Эдуард уехал немного расстроенный. Наверное, глупо было отказаться. Еще глупее - согласиться. Потом. Не знаю. Но все равно я не смог бы сходу бросить… не женщину, не родину и уж тем более не сомнительное право именовать себя патриотом. В общем, Эдик умеет залезть в душу, где оставляет после себя яд и разложение. Однажды он задал мне дурацкий вопрос - люблю ли я родину? Я никогда не думал об этом. Напомню, был 1990-й год, угар разоблачений.
Посмеявшись, позже я заметил, что вопрос превратился в занозу. Он проник в мозг и теперь все больше обрастает нервными клетками, вживаясь и усиливая боль. Сейчас это похоже на усталость от неудовлетворенной страсти. Изматывающий рубиновый дождь, пряный и душный. Тотальное беспокойство. От него надо избавиться. Он обманывает ощущением полноты взамен реально утраченной свободы. Эта страна. Эта страна. Я не могу назвать ее
Россией. Россия - это что-то личное. Ее здесь нет. Нигде.
Бедная Лаура. Я хотел получить от нее ответ на все вопросы. Точно также можно спрашивать о своих шансах выжить у капельницы, скальпеля, марлевой повязки. Я просто хочу ее. До первого дождя.
Примечания к главе 20.
shopping - делание покупок (англ).
Quoi dono lepidum novum dollarum - перифраз стиха
Катулла, здесь - “кому я дарю новый хрустящий доллар” (лат.).
Servando liminem servians - Остающийся в рабстве по причине пребывания дома (лат.).
21.
…Слушаю знакомца, мы в забегаловке на Торговой, четвертый час дня, цоевский драйв, в руках сигареты, все в кольцах дыма, кофе на столе. По словам Антона, его брательник снимает жилье где-то на северо-западе.
Пытаюсь представить рю Клиши, но вспоминаю лишь карту
Парижа с рекламой какого-то отеля, подаренную мне редактором журнала Holy Wave Лелькой Мадиевой.
Чертовски профессиональная Лелька мечтала работать уборщицей в редакции National Geografic. Эдик живет в районе Клиши. Если это именно те Клиши, а не одноименный boulevard. Да и является ли северо-запад северо-западом на карте, где центр Вселенной -
Галери Лафайет? После тридцатых Клиши стали другим районом, не тем, чем он был в эпоху Бретона, Миллера и Анаис Нин. Тогда у карты я сорвался в густой сумрачный поток, бурлящий в катакомбах беспокойства, и начал собирать весь негатив, что только может возникнуть при мысли о переезде, о безденежье, обледеневших крыльях. Прекрасно понимаю евреев, вопреки общему мнению отнюдь не чуждых наивности, влекущей их в Израиль и на совершенно тупые Галанские высоты. Прекрасно понимаю всех, кто летит, закрыв глаза, на родину своего духа, к стенам плача или бешенства, чтобы разочароваться в мифах личного пользования, и выплыть из течения, и стать собой.
Генри был неправ. Париж - не Китай. Париж -
Израиль. Но, пожалуй, я веду себя словно американский турист. Мне все подавай на блюде. Эта новая Мекка недоверчива, она вещь в себе, как заметил однажды
Эдик. Она ничего не открывает о себе туристу. Там нужно жить, хлебать его сатуру без различий и потрясания мошной. Закутск стремится выложить себя, вывернуть на изнанку все свои seesights за неделю.
Все свои церквушки и, естественно, Байкал.
После отъезда Эдика я получил от него пять или шесть писем, из коих явствует, что во Франции он способен писать лишь о Закутске. Что за чудовищная привычка.
Совсем как какой-нибудь козлобородый беженец, что единственный верный поступок в своей жизни оскверняет ностальгией и тоскливым бредом a la doukhovnost
russe. “Олег! я прекрасно помню мой последний год в
Закутске. На цветущей окраине вашего города, где улицы пропахли гашеной подлостью, я проводил лето в старой постампирной квартире за созерцанием
Читать дальше