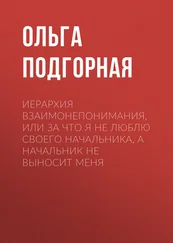— Понял, понял, — сказал Порываев, послушав.— Этого нужно добиться в Москве, в Комитете.
Он взялся за нос и немного его покрутил, будто поправил у себя на лице.
— Я с тобой согласен, но помочь не могу. Я в Москву не поеду, не могу, ты мне веришь? А больше некому сейчас; поезжай, хочешь, сам? — добавил он
не без хитрости, понимая, что это не дело начальника цеха — бросить дела и добиваться в Москве. На лице замдиректора появилось и сразу исчезло сладкое выражение от стыда за себя, не желающее однако выказываться.
В коридоре кто-то уже приближался к нему, вынимая из папочки на ходу переписку.
— Говорят, у тебя изобретателей зажимают? — сказал замдиректора вскользь, не желая услышать в ответ оправдание, просто чтобы слово немножечко повисело, не давая начальнику уж такой перед ним безупречности, — и ушел.
Тут начальник вдруг понял, что должен, что может сейчас погорячиться, кинуть ему необычное, гордое слово, будто бы не по работе, и это подействует на него так, как надо, какой это слово имеет по словарю полный смысл.
Он, было, бросился к спине замдиректора, но замдиректора было уже не догнать.
Он подумал, подумал и позволил себе обидеться.
«Что такое замдиректора? — размышлял начальник в обиде. — Он может заменить собой любого директора. Будет хороший директор (а сейчас у нас хороший), он заменит хорошего, будет плохой — и тогда ему придется заменять собой плохого, что же делать, и продолжать его линию в разных вопросах. При этом он делает вид, что хотел бы всегда заменять только самых отборных, самых лучших, добрейших директоров, — но теперь мне сдается, будто ему все ж приятнее заменять собой плохого; и значительно легче».
— Но ведь свой человек, понимающий нужды! — удивился он снова. — Никак не пойму.
Вечером он горестно напился дома, чего никогда обычно не делал, и даже не один, а в присутствии всех домашних, и не водкой, а нехорошим дагестанским вином. Выпивши, совсем не пошумел, как другие люди, тихо лег на постель и тяжело задремал.
А назавтра, закончив какие можно дела, он собрался и уехал в Москву, в Комитет.
7. ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Он часто ездил по родной стране, а не дальше.
Отправляясь в столицу — в большой, быстрый город, где недолго любому и утеряться, начальник надел толстый шарф до ушей, втайне надеясь добавить себе ощущения личности; и добавил.
Скорый поезд тронулся, набирая движение, оставляя провожающих вне пределов окна. Газета, лежавшая смирно около урны, вдруг заволновалась, подымая углы, будто сразу же не в силах подняться сама, а потом понеслась, закружилась над самой платформой, подхваченная железнодорожным ветром.
Стали появляться и заполнили всю картину вагоны от разных составов, случайные с виду постройки, грузы, положенные не основательно, а пока, магазин возле переезда, который всегда называют железнодорожным, во всех городах и у разных вокзалов. Дома, даже новые, казались построенными неправильно, потому что из них (представлялось) были видны и слышны целый день поезда.
Поезд гудел и гудел на ходу, давая всем знать, что не собирается останавливаться у маленьких, еще внутри города, остановок. Миновали товарную станцию — перевалку. Это слово всегда вызывало у начальника горечь, потому что значило, что на этом месте что-то куда-то переваливают в беспорядке. Он закрыл глаза, чтобы не глядеть пока вокруг, потому что не знал, не решил еще для себя, что нужно сделать для упорядочения этой картины.
Может быть, он и вздремнул, потому что когда поглядел за окно, поезд ехал уже мимо белых полей. Кругом находились большие просторы, лишенные видимого порядка. Вся равнина вертелась вокруг озерка, озерка незамерзшего, несмотря на погоду. Видно, лед все не мог получить такой силы, чтобы закрыть вдруг поверхность всех вод, на полях и в лесу.
Далеко по линии горизонта выступали из мелкого леса железные мачты, неслй мимо поезда свои высокие вольты, опасаясь приблизиться к самой дороге, опасаясь близости к своему тихому, гудящему напряжению.
Поезд быстро отталкивал землю назад, и она легко кружилась со своими домами, огородами, улицами и неровной почвой, с сутулыми копнами, посаженными серединой на кол, с частыми прутьями — это кустарник, и вдруг над кустарником подымается дерево — голое, без листьев, но в засохших цветах.
«Берегите наши леса — они ваши», — пытается власть убедить население с блеклых плакатов; но оно неубедимо.
Читать дальше