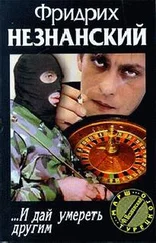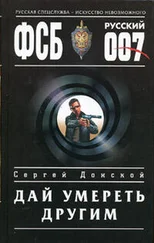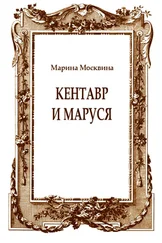И. Халатников - Дау, Кентавр и другие
Здесь есть возможность читать онлайн «И. Халатников - Дау, Кентавр и другие» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Дау, Кентавр и другие
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Дау, Кентавр и другие: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дау, Кентавр и другие»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Дау, Кентавр и другие — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дау, Кентавр и другие», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мне особенно запомнилась реакция А.В. Шубникова. Это ' был наш известный кристаллограф, классик, человек сдержанный, несколько суховатый. Мне с ним прежде не приходилось сталкиваться, мы были разных поколений, но сообщество физиков тогда не было таким большим, как сейчас, так что обо мне он что-то слышал и принял меня очень любезно. Немедленно подписал письмо, только спросил: «А кто еще подпишет?» И аккуратненько занес в свою записную книжку все имена. Это была естественная реакция хорошо организованного, может быть немного педантичного человека.
Письмо за подписью 12 физиков мы с Абрикосовым отвезли и в приемную Совета Министров, и в приемную ЦК КПСС. Оно произвело должное впечатление. Вскоре, по-видимому, состоялось еще одно заседание Президиума ЦК и была создана согласительная комиссия, потому что голоса на том заседании, как нам стало известно, разделились примерно поровну.
Я думаю, что Хрущев и Маленков в душе сочувствовали идее возвращения института Капице, но была оппозиция со стороны группы Малышева и Первухина.
Согласительная комиссия в конце концов решила: Институт физических проблем возвратить Капице, а те лаборатории, которые были тесно связаны с деятельностью Министерства среднего машиностроения, передать другим институтам. Лаборатория с ускорителем Ван-де-Граафа была передана Курчатовскому институту, а теоретическая лаборатория, которую я в то время возглавлял, в Институт прикладной математики, директором которого был М.В. Келдыш. Таким образом, вопрос об основном препятствии — теоретической лаборатории с вычислительным центром — был решен, и П.Л. вернулся в институт.
В Институте прикладной математики я провел всего пол года. Для меня уход из ИФП был личной трагедией. Связь с Ландау я, естественно, мог поддерживать, не в том дело. Я привык к обстановке этого уникального учреждения. К тому же место для физика в математическом институте найти было нелегко...
Я пожаловался на свою судьбу И.В. Курчатову, который относился ко мне с симпатией, сказал ему, что не нахожу себе места в математическом институте. Он пообещал: «Я тебя заберу к себе». (Он ко многим обращался на «ты».) И действительно, появилось распоряжение по Академии наук о переводе моей группы, без математиков, в Институт Курчатова, даже было выделено помещение в корпусе у Л.А. Арцимовича.
Однако я не спешил перебираться. Дело в том, что к этому времени в работе, связанной с атомным оружием, интересных проблем для физиков уже не осталось. Основные физические вопросы были давно решены, работа становилась все более и более рутинной. Я подождал месяц или два — никого, вижу, судьба моя не волнует — и тогда я решился и написал А.П. Завенягину, министру среднего машиностроения, что как физик я сделал все, что мог, и не вижу, чем могу быть полезен атомной программе. Вскоре мне разрешили вернуться в Институт физических проблем.
С высокой должности заведующего лабораторией я пришел в ИФП на должность старшего научного сотрудника, потеряв почти ползарплаты, и был при этом совершенно счастлив, что могу вернуться в свой институт и снова работать рядом с Ландау и Капицей.
Сложный период жизни П.Л. Капицы с 1946-го по 1954-й г. даже среди его близких друзей, пытавшихся проанализировать события тех дней, не находил однозначного объяснения. Не всегда удавалось при этом, что называется, свести концы с концами. Выше я попытался дать свою версию, как мне кажется, логически непротиворечивую.
Анна Алексеевна Капица, любезно ознакомившаяся с рукописью, сделала замечание, которое я, с ее разрешения, приведу:
«П.Л., а также мой отец (академик Алексей Николаевич Крылов), власть терпели, как терпели силы природы — дождь, бури, землетрясения и пр. Силы природы не уважают, но с ними живут...»
К замечаниям Анны Алексеевны, сыгравшей важнейшую роль в жизни П.Л., а иногда, по-видимому, определяющую в принятии решений, необходимо отнестись самым внимательным образом. В ее подходе акцент отличается от моего. Можно ли, отталкиваясь от этого акцента, связать логически факты жизни и поступки П.Л. этого периода? Капица был яркой и противоречивой личностью, Сталкиваясь с ярким явлением, каждый видит его по-своему, а иногда даже видит то, что хочет увидеть.
Капица, Ландау и Гамов
Имена Ландау и Капицы связаны тесно в науке и жизни. Вначале при организации Института физических проблем П.Л. Капица сделал предложение возглавить теоротдел известному немецкому физику Максу Борну, который после эмиграции из фашистской Германии искал себе место для постоянной работы. В конце концов М. Борн получил кафедру в Эдинбурге, а Капица предложил возглавить этот отдел Ландау. В 1937 г. Ландау переехал в Москву и с тех пор до конца своей жизни возглавлял теоротдел ИФП. Именно здесь Капица открыл сверхтекучесть гелия, а Ландау создал теорию этого фундаментального явления. За эту работу ему в 1962 г., уже после трагической автомобильной аварии, была присуждена Нобелевская премия по физике. Исследование сверхтекучести навсегда связало имена Ландау и Капицы. Нельзя, однако, сказать, что между ними были близкие отношения. Со стороны Ландау это было уважительное отношение младшего к старшему. Он постоянно помнил, о том, что Капица освободил его в 1939 г. из заточения в Лубянской тюрьме. Капица не был особенно деликатным человеком и иногда отпускал грубые шутки если не в адрес Ландау, то в адрес теоретиков вообще.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Дау, Кентавр и другие»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дау, Кентавр и другие» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Дау, Кентавр и другие» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.