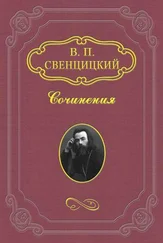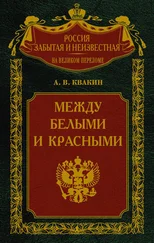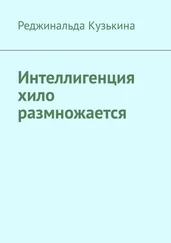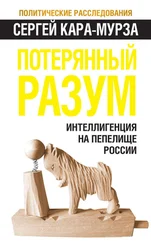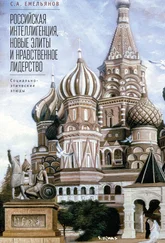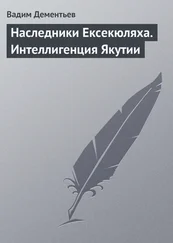За краем начинается сказочное то, не знаю что , "пресветлый мрак" Дионисия Ареопагита, дионисийская бездна Ницше. Оттуда, на мой слух, и приходит новое, то, что питает мир социальных и научных конвенций. Все, в том числе человек, обновляется за счет живородящего хаоса, буддийской "пустоты", полнее которой ничего нет. Но для этого нужно выйти за край или хотя бы постоять на краю , - и сразу назад, в тепло - чтобы быть в состоянии задним числом выразить невыразимое. Туда и обратно, смерть и воскресение, молчание и слово. Настоящее слово выходит из Молчания, как купальщица из воды: капли еще дрожат на ее коже.
Человек трансцендирует себя и только тогда меняется . В противном случае он - заложник навыка, homo faber, "эрудит обыкновенный". Сообщество трансцендирует себя, испытывает легкую встряску, обдается волной удивления, ее морской свежестью - и идет в рост. В противном случае ткань человеческих отношений формализуется и истончается. Застой.
Чтобы трансцендировать себя, человеку нужен дар перехода, а сообществу - человек, наделенный этим даром. Или люди, им наделенные. Здоровое, пластичное сообщество интеллектуалов не только не боится крайних , оно в них крайне заинтересовано. Я имею в виду университетское сообщество: жестко профилированный, придаточный институтский социум такого себе позволить не может, да и не возникнут в нем такого рода въдение и потребность. По определению не возникнут. Институт натаскивает, университет развивает. В нем объединены три социальных системы: образование, культура и наука (И.А. Огородникова, А.Г. Геринг).
В морфологическом смысле крайние для университета - то же, что монахи, точнее, мистики для религиозного сообщества, то же, что постимпрессионисты для академического художественного мира рубежа XIX-ХХ веков. Они постоянно находятся, так сказать, в положении радара. Посредством них университет сканирует свою terra incognita, а затем захватывает там высотку за высоткой, расширяя пространство науки и культуры.
Университетские крайние - не расслабленная богема, я хотел бы это подчеркнуть. Это люди, преданные науке, люди, стремящиеся быть критичными, идеологически неангажированными, точными и внятными, то есть в последнем счете академичными - в том смысле, который в это слово вкладывал М. Вебер (отделять факт от ценности, не внушать свои убеждения аудитории, не играть в пророка; никакого камлания - это недостойно профессионала).
В то же время они являют собой определенный вызов консервативной части университетского мира, предпочитающей жить в мире госпожи Привычки, в области исключительно статусных взаимоотношений, где следование приличиям важнее духа поиска. Крайние - "вакцина" от вируса формализации. В этом смысле они - за пределами пространства академического жеста (ПАЖити, где можно спокойно щипать заслуженную травку). Классическим примером академической "отвязанности" мне кажется Эйнштейн, смотрящий на нас с высунутым языком, играющий на скрипке, говорящий, что Достоевский дал ему больше, чем Гаусс. А Ландау? Тут я просто молчу. А Бор?: "Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть истинной". И это представители самых строгих наук, причем лучшие представители...
Вот здесь я отважусь, наконец, потревожить тени Сократа и Ницше - смущающие и одновременно вдохновляющие тени.
На первый взгляд, Сократ и Ницше - антагонисты, точнее, нас хотел убедить в этом Ницше, считавший, что Сократ более чем кто-либо повинен в гибели античного трагического мифа, что он заболтал, смертельно рационализировал греческую культуру. Ницше убедил в этом многих, в том числе такого мэтра антиковедения как А.Ф. Лосев. Между тем Сократ не только и не столько говорил, он прежде всего жил и именно жизнь стала его главным словом. Ницше, учивший о превосходстве жизни над словом, не захотел увидеть в Сократе самого себя, его зеркало в данном случае показывало то, что диктовали ему его философские пристрастия. Этому не стоит удивляться: чаще всего мы видим то, что хотим видеть. Мы обречены на себя.
Не буду развивать эту тему, скажу только, что по большому счету Сократ и Ницше делали одну и ту же работу: предохраняли культуру от бесплодия, от превращения ее в фабрику по производству слов, не обеспеченных Молчанием. Страшный образ: культура, ставшая свалкой дурно пахнущих, мертвых слов (Николай Гумилев), никому ничего не говорящих. Торжествующее пустословие как последняя вакханалия, как апокалипсис.
Читать дальше