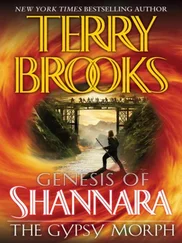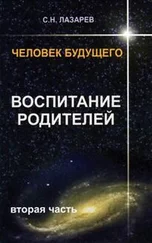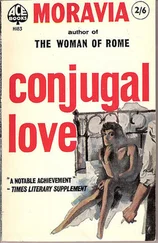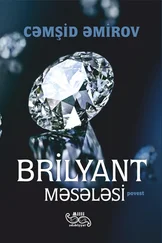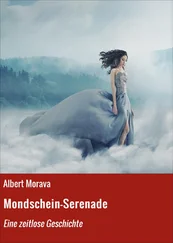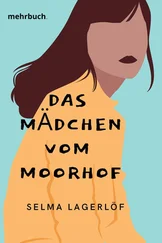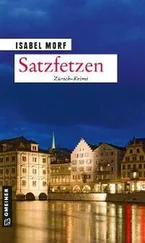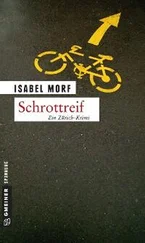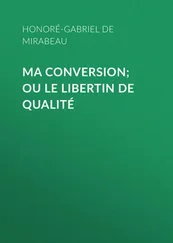мировоззрение исходит из религиозных представлений. Значит, либо религия не дала ему
правильной картины мира, либо его представление о религии было искаженным, ошибочным.
Его вывод был следующим: «Я перестал верить в то, что мне было сообщено с
детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога
или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и
его учение, но о чем было его учение, я тоже не мог бы сказать».
Если человек не представляет себе, в чем смысл религии, им исповедуемой, то это, по
сути, полная внутренняя дезориентация. Что могло привести к этому?
И опять попытка поставить диагноз: «...Вероучение не участвует в жизни, и в
сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни
самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там,
вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не
связанным с жизнью, явлением.
По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать,
верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и
отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и
исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и
безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие
и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими».
Думаю, читатель догадался, о ком идет речь. В своей «Исповеди» Лев Николаевич
Толстой написал о том, что не смог пробиться к христианству через православие. Догмы,
ритуалы, обычаи постепенно превращали религию в театр, который посещало все меньше
зрителей. Этот театр жил своей жизнью, а зрители — своей. Религия не учила людей ни
заповедям, ни нравственности, ни любви. Обряды оказались важнее нравственных законов.
Жестокость, воровство, сексуальная распущенность, судя по описаниям Толстого, достаточно
снисходительно воспринимались и светской, и духовной властью. Это гарантировало
разложение общества.
Толстой бьется в тисках противоречий. С одной стороны, он видит и чувствует, какую
огромную роль играет вера для спасения души. Он понимает, что без православия Россия
перестала бы существовать, и одновременно видит у церкви серьезные проблемы.
По сути дела, он наблюдал ту же картину, которая сложилась 2000 лет тому назад в
Израиле. Любовь и нравственность отошли на второй план, а формальное исполнение ритуалов
оказалось на первом. Спасение достигалось не через любовь, нравственность и выполнение
заповедей. Достаточно было сходить в церковь, принять причастие, исповедоваться, купить
свечку — вот что гарантировало очищение и спасение души.
Но законы развития души отменить невозможно. Соблюдение заповедей необходимо
для сохранения любви. Если человек ворует, грабит, поклоняется своим животным желаниям,
тогда причастие, исповедь, походы в храм превращаются в бесполезную атрибутику. Если
форма не подпитывается содержанием, она умирает. В тогдашней России именно это и
происходило.
Толстой пытается познать Бога. Не понимая толком, в чем смысл христианства, он
обращается к индийской философии. Попытки обуздать свои страсти приводят его к
вегетарианству. Пробиться к познанию истины через исследование индийских Священных книг
тоже оказалось делом непростым. Толстой изучает ислам и буддизм, поиски продолжаются. Он
опять обращается к христианству и снова наталкивается на противоречия у последователей
Христа.
Перед человеком несколько путей, как пишет Толстой. Можно жить в неведении, ни о
чем не задумываясь. Второй выход — это эпикурейство, наслаждение жизненными
удовольствиями. Третье направление Толстой называет силой и энергией: не обретя смысла
жизни, человек разрушает себя. Четвертый выход — это слабость: жить только потому, что не
хочешь или боишься убивать себя.
92
Толстой видит, что именно так и живут практически все люди, но самого его не
устраивает ни один их этих путей. На самом деле, все четыре направления сводятся к
поклонению телу или духу. «Грубым дается радость, нежным дается печаль». Тот, кто живет
Читать дальше