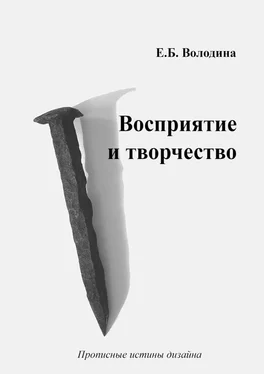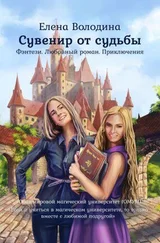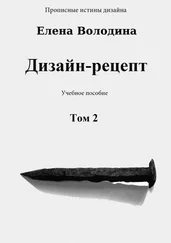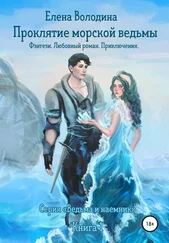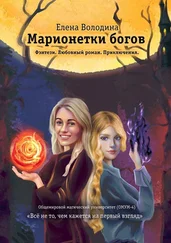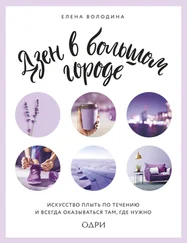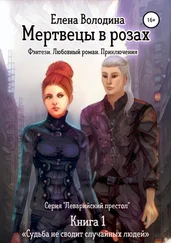Своеобразие такого мышления, по Юнгу, заключается в следующем: «То, что мы называем случайностью, для их мышления является… главным принципом, а то, что мы превозносим, как причинность, не имеет никакого значения. Их, видимо, интересует сама конфигурация случайных событий в момент наблюдения, а вовсе не гипотетические причины, которые якобы обусловили случайность. В то время как западное мышление тщательно взвешивает, анализирует, отбирает, классифицирует, изолирует – китайская картина мгновенно всё сводит к незначительной детали, ибо все ингредиенты и составляют наблюдаемый момент… Этот любопытный принцип… диаметрально противоположен нашей причинности».
Для китайского мышления традиционна стереотипность. Ничего удивительного, если вспомним, что приоритет правого полушария – опора на архетипы и опыт, восприятие и создание «гештальтов», посредничество личного и чужого, в том числе коллективного опыта и памяти. Отсюда трезвый практицизм китайского традиционного мышления и основа китайского национального характера.
Где, в каком обществе сохранилось бы значительных размеров культовое сооружение в том виде, в каком было построено 500 и более лет назад? Вы поразитесь, если узнаете, что оно построено из дерева и бамбука. Как же оно продержалось столько лет? Дело в том, что каждые несколько десятилетий постройку сносят по причине ветхости и строят точную копию!
Устои настолько тверды, что не дают ни малейшей возможности стать иным, чем всё вокруг. Это свойство этноса природа создала, вероятно, потому, что китайцы имели много детей и в условиях скученности невозможно было бы существовать без сверхтерпимости, единения и одинаковости.
В Китае всегда был гипертрофирован прецедент, решающим аргументом в пользу той или иной точки зрения были ссылки на подобное в истории, на классиков, на канонические книги. Например, реформатор Кан Ювэй опирался на Конфуция: «Когда простой смертный говорит об изменениях государственного режима, то это вызывает у людей лишь удивление; когда же он начинает приписывать все эти слова древним властителям, то никто не бывает этим испуган, и сам он избежит опасности. Без исторического примера трудно добиться доверия, а без доверия народ не будет повиноваться…».
С учётом приоритета правополушарных функций в творчестве (в том числе и научном) становится понятным, почему именно китайцы с начала IV века до н. э. подарили миру столько открытий: изобретение бумаги, компаса, пороха и книгопечатания, счёты, календарь, чугун, колокола, изготовление напитков путём брожения (предшественники вина), лаки и лакированные изделия; позже – чай, лапшу, палочки для еды, вёсла, тачки, сейсмоскоп (для обнаружения землетрясений), таблицу умножения, стандартизированные деньги, руль судна, иглотерапию, а также фарфор, буровые скважины, воздушный шар, газовый баллон, живопись, домино, игры в карты, зубную щётку и т. д. Многие из этих изобретений привели к значительным изменениям в человеческой истории.
Устный язык в Китае также особенный. В разных диалектах насчитывается от 420 до 900 звуковых комбинаций. Такое количество слогов очень мало для обозначения множества существующих предметов и явлений. Поэтому разнообразие звуков достигается за счёт тонирования (произнесения слога тем или иным тоном – их насчитывается от 4 до 9 в разных диалектах).
Так порождается множество омонимов (одинаково звучащих единиц языка) в ́ языке. Для китайского уха слова из одинаковых звуков, но по-разному интонированные, имеют различные смыслы. Разные понятия часто звучат одинаково и записываются одним и тем же иероглифом. Наряду с этим есть много слов, которые звучат одинаково, но пишутся разными иероглифами. Например, слог «li», произнесённый вторым, третьим или четвёртым тоном, означает соответственно «груша», «слива» или «плоды каштана». Иероглифы, обозначающие все эти три плода, различаются по написанию. Однако во фразе «Я ем li» человеку, не привыкшему различать тонированные слова, не понять на слух, какой именно плод ест говорящий. Китайцу же не составляет труда различить правильный смысл. Кстати, вспомним, что интонации и мелодика речи распознаются правым полушарием мозга.
Иероглифическое письмо принципиально отличается от алфавитного и соотносится с функциями правого полушария (пространственно-образное мышление). Каждый иероглиф китайского языка – это обозначение смысла какого-либо перцептивного образа с помощью одной картинки. Между ними нет пробелов, как в алфавитном письме. Слова алфавитных языков раскрывают свой смысл только после прочтения всех букв по порядку. А при чтении и написании иероглифов понимание и передача смыслов происходит мгновенно и целостно. Благодаря такой особенности языка китайцы читают свои книги гораздо быстрее, чем мы.
Читать дальше