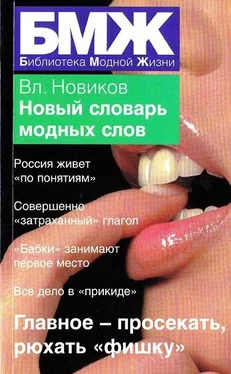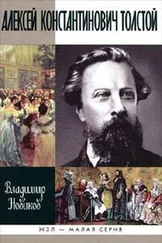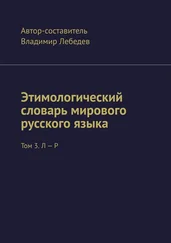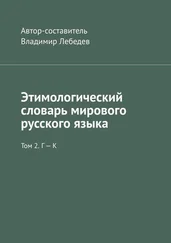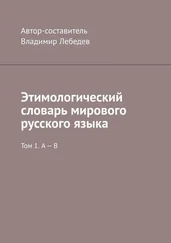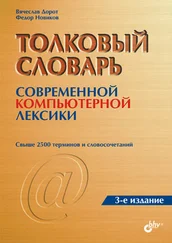С тех пор «драйв» широко внедрился в русскую речь и сделался таким же многозначным, как английское «drive». Буквальное значение «езда, катание» у нас не привилось. Не говорим мы: какой же русский не любит быстрого драйва! Зато по богатству метафорических значений наш «драйв» ничуть не уступает иноязычному собрату. Напор, энергия, возбуждение, сильная эмоция, мощность, стимул, порыв — все это теперь «драйв». Есть у слова и ряд конкретно-специальных значений. «Драйвом» именуют нарастающий темп в джазе, низкий и плоский удар в теннисе, а также наркотическое удовольствие: «подсесть» можно что на «драйв», что на «кайф». Этого, впрочем, делать не надо.
Продвижению «драйва» в русский язык способствует технический прогресс. Даже сугубый гуманитарий и безнадежный «чайник» знает, что в его персональном компьютере имеются «драйверы», а специалисты небрежно употребляют этот термин с жаргонным окончанием и ударением: «драйверА». Молодые пижоны на английский манер называют «драйвером» шофера, водителя. В общем, «драйв» понемногу окапывается в наших широтах. Но, полагаю, место ему только в разговорной речи.
Вполне естественно для музыкантов и поэтов в неформальном разговоре обмениваться мнениями о том, имеется ли драйв в том или ином произведении. Языку всегда нужны новые синонимы для старых и вечных смыслов. Вот мы читаем или слушаем нечто занудное и тягомотное. Не скажешь же приятелю в академическом стиле: мне в этом опусе недостает композиционной динамики. Нужно какое-то живое, незатасканное словечко.
Твардовский так характеризовал вялые стихи: «Как говорит старик Маршак: — Голубчик, мало тяги!» А сегодня можно срезать слабого сочинителя беспощадным приговором: «Мало драйва!» Для строгой письменной рецензии, однако, это не подойдет.
И вообще: не стоит слишком эксплуатировать модное словцо и тем самым его обесценивать. Пусть оно лежит в вашем речевом кошельке на всякий случай: авось пригодится.
ЕМЕЛЯ
Русская шутливо-жаргонная версия английского слова «е-mail» (как и «мыло»). Употребляется и в уменьшительно-ласкательной форме «емелька».
Всемирная электронная почта окончательно укрепила глобальный статус английского языка. Этому продолжают сопротивляться только французы, решившие заменить чуждый «е-mail» специально изобретенным национальным термином «courriel» (courier + electronique). Может быть, сия кабинетная выдумка и закрепится в их языке, но в целом «франкофония» неизбежно пасует перед «англофонией». Сужу по новому поколению: приходишь в парижскую булочную, запрашиваешь, натужно артикулируя, «une petite baguette», а юная продавщица, распознав иностранца, кокетливо переспрашивает: «А small one?» Так что лингвистическое Ватерлоо, не при французах будь сказано, уже состоялось.
У России же в освоении чужих языков всегда был свой, лукаво-хитроватый путь. Русский человек, услышав непонятное слово, наивно переспросит: «Ась?», а потом вроде даже повторит его, но в таком виде, что родная мать не узнает. Еще с петровских времен мы так переименовывали всех иностранцев. Гамильтон? Значит, будешь Хомутов. Коос фон Дален? Я и говорю: Козодавлев. Чо, не так? Ну, извините, мы люди простые. В 1812 году и с французской речью наш народец так же сладил. Ему говорят: «cher ami» — и он тут же выдает: «шерамыжник». Исторический опыт пригодился много лет спустя, когда нас опутала всемирная электронная паутина. Мы не против «имейла», мы его так и называем: емеля. Согласитесь, в подобной переделке есть нечто от лесковских словечек «мелкоскоп» и «тугамент».
Молодежно-компьютерный жаргон насчитывает уже десятки слов-терминов. Без большинства из них мы можем легко обойтись. Зачем мне, скажем, говорить «мама» в значении «материнская плата»? Да я понятия не имею, где находится эта штуковина, пусть с ней мастер по ремонту разбирается. А вот электронные послания мы получаем каждый день.
И все, что пишем для печати, посылаем в редакции и издательства, «приаттачив» к соответствующей емеле.
Одно только смущает. «Емеля» содержит тревожную коннотацию, связанную с одноименным сказочным персонажем, который все время лежит на печи. Отправишь важное для себя письмо, и придется долго-долго ждать ответа — до тех пор, пока наконец вечный российский Емеля вместе с печкой не сдвинется с места. По щучьему веленью.
ЖЕСТЬ
«Жесткость», «жестокость», «тяжесть», «жизнь-жистянка» — всё это соединилось в единый речевой жест. Имя ему — «Жесть!» Это скорее эмоциональное междометие, чем существительное с определенным значением. В жаргонном слове — признание жестокости нормой жизни, добровольное подчинение волчьим законам нашего дикого капитализма. Так был назван кинофильм о «крутых разборках» (полтора десятилетия назад подобный жанр и стиль именовался «чернухой»). Появился в Москве и клуб «Жесть». Перед нами мрачноватый символ 2000-х годов, антоним и интеллигентской «духовности», и буржуазного «гламура».
Читать дальше