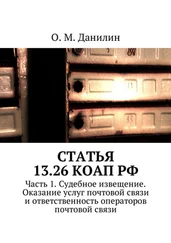Перелётный словарь для почтовой вороны
Владимир Старшов
© Владимир Старшов, 2021
ISBN 978-5-4496-5056-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. Пора тополиного пуха
«Сегодня он настроен лупоглазо…»
Сегодня он настроен лупоглазо,
идёт и хочет всё увидеть сразу,
поэтому не видит ни хрена,
и жизнь житейская его обречена,
а с ним навек жена обручена.
Она не разделяет отрешенья,
и не даёт, голубка, разрешенья
среди зимы на самогон и ананас,
и говорит, что это не для нас,
и налицо здесь когнитивный диссонанс.
Он не снимается, и не снимается,
и до весны все маются, и маются,
и пьют, и пьют свой позитивный яд.
И вот весна, и пьяный в доску тополь
баюкает умильно семейку воробьят,
никто под тополем ножищами не топает,
и все в обнимочку тихонечко стоят.
«Как дети дождя и вокзала…»
Как дети дождя и вокзала,
бежали, смеялись, и вслед
какая-то тётка сказала,
что могут проверить билет.
Мы ехали, хлопали двери,
мелькали кусты и мосты,
никто ничего не проверил
до самой последней версты.
«Где шмель, как исполин травинок…»
Где шмель, как исполин травинок,
исполнен мёда и жужжанья,
летает средь больных тычинок —
там жизни видно прилежанье.
Он трудится в сиянье строгом,
в живое золото окован,
как маленький наместник бога
в своём народце лепестковом.
Он может всё – не покалечив,
пыльцу стряхнуть, росинку вправить, —
и небо там шмелю на плечи
не давит, не мешает править.
Ренуара полотно
словно тёплое окно,
покачнётся чуть пространство —
исчезает и оно.
Где-то в комнате камин,
дышит в воздухе жасмин,
я стою среди народа
перед женщиной один.
Эта встреча в полотне
предназначена не мне,
я побуду невидимкой
в запоздалой тишине.
Чтоб, рискуя головой,
понимая – сам не свой,
слышать: цокают копыта
над парижской мостовой,
приближаются шаги
из каштановой пурги…
А на улице московской
не видать уже ни зги,
и кружится снежный зверь,
и снежинок как потерь, —
и смотрительница в тёмном
запирает на ночь дверь.
«Семь вёрст осеннего простора…»
Семь вёрст осеннего простора
в прорехах солнечных и синих,
молчанья день и разговора
с собой и с ним – на паутинах.
Средь маленьких месопотамий,
осиновых и камышовых,
бродил, и злость свою оставил,
всё заросло почти бесшовно.
Из воздуха и мха,
сопенья динотерия,
и древнего стиха —
дыханье у материи.
И если уколоть
иголкою сосновою —
вся мировая плоть
вздыхает мыслью новою.
Травы сухие поют,
ястреб парит беззвучный.
Есть в бытии уют
самый на свете лучший.
«Там, где бабочка летала…»
Там, где бабочка летала,
мелочь божьего резца,
в синем воздухе осталась
золотистая пыльца.
И пока темнеет лето
у меня в глазах, вослед
всё мелькают пируэты
бабочки, которой нет.
«Опять весенняя лепнина…»
Опять весенняя лепнина,
и чьи-то пальцы на сугробах,
податливы и снег, и глина,
ваятель же, как будто, робок.
То так, то этак мнёт пространство,
меняет свет, меняет тени,
и словно в солнечное пьянство
впадают люди и растенья.
«Я съел большую виноградину с картины…»
Я съел большую виноградину с картины
старинной, в трещинках, какого-то голландца,
где гроздья были словно в паутине,
но замечательно живого глянца.
И эта ягода с повадкою жемчужной,
своей судьбой счастливая вполне,
моим поддавшись пальцам ненатужно,
во тьме холста с семьёй осталась дружной,
и наяву в свету досталась мне.
Вкус оказался в ней настолько терпкий,
что виноградин никаких других отныне
душа окаменелая не терпит;
пусть вепри, гарпии и тернии, и черти —
бог Дионис поёт себе в пустыне,
с последней амфорой всесветный виночерпий.
«Как прилетают первые скворцы …»
Читать дальше