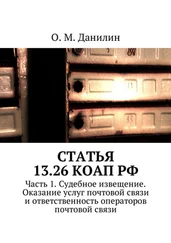Я это всё заберу, заберу,
если совсем не умру…
Похлебал я полбы,
прибежал спозаранку.
Лес попрятал грибы,
и ушёл в несознанку.
И стоит, и молчит.
А я словно к врачу.
Вот, посеял ключи,
сам стою и молчу.
Взявшись за ручки,
паучки и паучки
летели по свету,
по бабьему лету.
«В сентябре бывает обидно…»
В сентябре бывает обидно
за себя, за тебя, за всех,
потому что куполовидно
небо, сыпал бы лучше снег.
Или взял бы какой-то отпуск
тот, кто смотрит из синевы,
не нужна ему наша отпись,
и молитвы из головы.
«Бытие – это когда свет падает косо…»
Бытие – это когда свет падает косо,
в сосновом лесу осень,
сентябрьское утро, часов этак восемь.
Пахнет оно грибами рыжиками,
в ложбине не срезанными, не состриженными,
и другими растеньями разными,
очень разнообразными.
И прозрачный ветвистый ветер,
тёплый, умеренный,
в вышине говорит о тебе вполне уверенно,
что живёшь ты, расстрига, на свете.
И ты на это как будто впервые
поворачиваешь голову на морщинистой вые,
а цветы вокруг, лесные и полевые,
за рукав теребят тебя как брата,
и торопятся рассказать,
что горбатый ливень идёт обратно,
потому что ночью была гроза,
он траве заглядывает в глаза…
Листьями засыпан,
ветром занесён
желтовато-зыбкий
сентябрьский сон.
Тыщу лет на свете
согласен жить,
а нельзя – об этом
нечего тужить.
«За дождём, за синевой, за небом…»
За дождём, за синевой, за небом,
за последней самою звездой,
там, где даже бог, наверно, не был,
побывала птица козодой.
С той поры, самой себе не веря,
думает она в полночной мгле:
«Запою – и все воскреснут звери,
жившие когда-то на земле.»
«Вот прелести домашнего ареста …»
Вот прелести домашнего ареста —
спокойно за окном стоит окрестность,
и осень как смиренная невеста
сидит тихонько и не сходит с места.
И воробьи семейства воробьиных
о чём-то говорят понятным языком.
А снегири потом склюют рябину,
и зимовейник разойдётся дураком.
«По осени, наверно, думать надо…»
По осени, наверно, думать надо
о том, что осень лучше снегопада,
что тугодум – он сам себе как дом,
а время тугодуму только радо,
поскольку и оно кумекает с трудом.
Ну, и так далее, весной о птицах,
в июле на свету настаивать слова,
и старую шинель с горчицею в петлицах
проветривать, чтоб не болела голова.
А лучше вовсе ни о чём не думать,
а взять тростинку, вслушаться и дунуть,
к тому, что выдулось прислушаться, другую
тростинку взять, такую же нагую.
И если кто-то наблюдает, если
ему не безразличны наши песни,
за то что ты всю жизнь дышал в тростинку,
тебя беспутного и милую былинку,
с тобою разделившую твой путь,
он всё же превратит во что-нибудь…
Я шёл, мне дождь за воротник плескал,
мой плащ под ветром на ходу поник,
я видел, что меня искал
в толпе сквозь мокрое стекло глазами проводник,
я вспомнил, боже, ведь сказал Паскаль,
кто мы такие – мыслящий тростник…
«Ночью плакали и топали…»
Ночью плакали и топали,
крики слышались: «Идём!»
Это инвалиды тополи
бунтовали под дождём.
«Осины ветер треплет, треплет…»
Осины ветер треплет, треплет,
и раздувает красноту,
мучительный и сильный трепет
передаётся за версту.
Из синевы так грубо дует,
жалеет или негодует,
зачем же до последнего листа,
кому нужна такая нагота.
Неужто не могло быть по-другому,
и пусть бы продолжался этот гомон,
и лист летел, и не кончался лист,
не застудил бы пальцы гармонист,
и никогда не бросил бы игру,
и мы до оттепели с ним стояли б на ветру…
«Все живописью здесь мои испещрены глаза…»
Все живописью здесь мои испещрены глаза,
и живопись летает как пёстрая коза,
на берег дальний, весь в снегу,
и вновь ко мне, обратно,
и надивиться не могу,
насколько это всё бесплатно.
Читать дальше