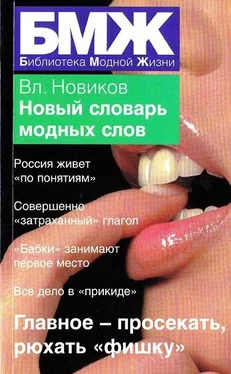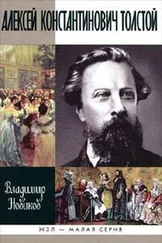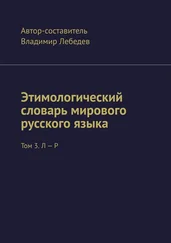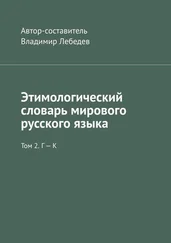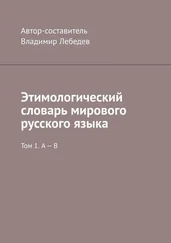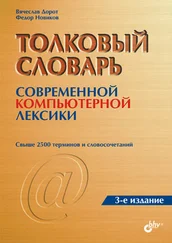А вот кто сегодня не блещет по части имиджа, так это, как ни странно, наши литераторы. Их тусовки и публичные выступления, их костюмы, манеры, прически, жесты настолько бесцветны и невыразительны, что фотографам и телеоператорам особенно разгуляться негде. Осанисто-стильный Аксенов или Вознесенский в неизменном шейном платке остались скорее исключением, чем правилом. Прозаики и поэты среднего и младшего возраста уповают только на качество своих текстов и ведут себя скованно, зажато, приглушенно. Конечно, в начале было слово, но ведь, скажем, мастера серебряного века имиджу тоже придавали значение, хотя и не обозначали свой облик таким словом. Блоковские вдохновенные кудри, пресловутая желтая кофта Маяковского, ахматовская царственность, есенинская разгульность… А ведь тексты у них тоже имеются, и недурные. Может быть, творческой личности все-таки полезен имидж — как вектор художественного поиска, как способ энергетической настройки, своей собственной и читательской?
Скромность и сдержанность похвальны, но стоит прислушаться и к Козьме Пруткову (такого человека вообще не было, а колоритный имидж был и остался в культуре навсегда): «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?»
ИСЧЕЗНУТЬ
— А как там Андрей?
— Да что-то исчез совсем.
Типичный для нашего времени диалог. И, заметьте, слово «исчезнуть» в этом контексте отнюдь не означает «прекратить существовать» или «быстро уйти», как зафиксировано в толковых словарях. Речь идет о том, что человек перестал с кем-то общаться. Не звонит, не пишет, не передает приветов через общих знакомых. Что это? Осторожный способ разрыва отношений или просто равнодушие к некогда близким людям?
Не очень достойный, по-моему, стиль поведения. Благородный человек и сходится и расходится с людьми осознанно и ответственно. Дорожит контактами. Если возникли сложности, то он не дуется и не озлобляется, а честно и открыто выясняет отношения. Он держит в памяти (не в компьютерной, а в памяти сердца) всех, кто ему когда-то был дорог. Не «исчезает» на годы. При всей занятости всегда есть способ обновить знакомство, подтвердить душевную привязанность. Скажем, поздравить человека с днем рождения или с Новым годом. Уж раз-то в год стоит выйти на связь — хотя бы для того, чтобы убедиться, что знакомец жив и здравствует, что не «исчез» он в первичном значении слова. А есть еще такая изысканная традиция: путешествуя, посылать родным и близким открытки с видами городов и экзотическими пейзажами, начертав на обороте пару теплых слов.
«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», — слова Лиса из «Маленького принца» Сент-Экзюпери известны всем. Не помню, чтобы кто-то оспорил этот афоризм, теоретически мы все с ним согласны. А практически… То и дело малодушно исчезаем.
КАЙФ
Существительное арабского (или турецкого) происхождения. В XIX веке звучало как «кейф» и, согласно знаменитому писателю-востоковеду Осипу Сенковскому (он же — Барон Брамбеус) означало приятное полеживание в сочетании с прихлебыванием кофе и покуриванием табака. Изредка это слово мелькает у классиков (Достоевский, Гончаров, Лесков), но в целом им было не до кейфа: все они много писали и притом страдали за народ. В шестидесятые годы XX столетия в Россию пришел уже жаргонный «кайф», нашедший широчайшее распространение в речи подростков и юношества, обозначая и здоровые радости, и болезненно-наркотическое опьянение. Отцы и деды у нас тоже склонны ловить кайф и соглашаться с гедонистической философемой «без кайфу нет лайфу».
Но все-таки молодость неминуемо проходит, а об удовольствиях зрелого возраста хочется говорить иными словами. «Кайф» можно поймать, нанюхавшись клея «Момент» и послушав примитивнейший «музон», но как выразить удовольствие более утонченное? Скажем, от свежей устрицы, запиваемой бокалом шабли, или от музыки Софьи Губайдулиной. Тут восклицание «Кайф!» прозвучит по меньшей мере безвкусно.
Моя швейцарская приятельница, побывав в Москве, делилась потом в Цюрихе своими впечатлениями с коллегами, изучающими русский язык. «В России я наслаждаюсь!» — призналась она, но преподаватель (для которого русский язык — родной) ее поправил: «Так говорить нельзя. Нет такой глагольной формы — «наслаждаюсь». Полагаю, грамматическая форма все-таки есть. Но нет у нас, русских, психологической формы, адекватной красивому глаголу «наслаждаться». В большинстве своем не умеем мы это делать. Так что приходится ограничиваться редкими минутами немудреного кайфа.
Читать дальше