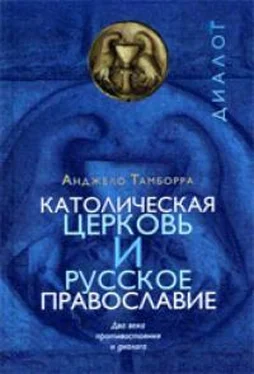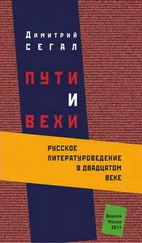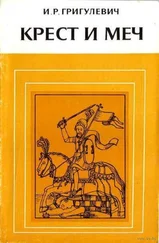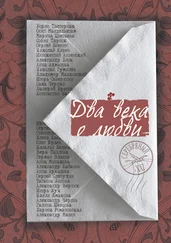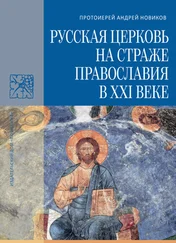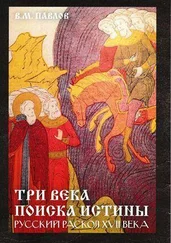Алексей Юдин
Вот уже почти тысячу лет всех, кто действительно ощущает себя христианами, мучает вопрос: почему мы разделены, хотя евангельский завет «Да будут все едино» несомненно является категорическим императивом?
Вопрос этот с сожалением стали задавать сразу после схизмы Михаила Керулария 1054 года, который ознаменовавшей действительное начало разделения католического Запада и православного Востока. Память о все чаще переходивших в светскую сферу взаимоотношениях, которую Фридрих Энгельс считал грузом, доставшимся от предыдущих поколений, ложится тяжелым бременем на живущих ныне и передается потомкам, нисколько не благоприятствуя облегчению примирительного диалога, свободного от предрассудков и недомолвок. И все же ничто не смогло ослабить — ни на Востоке, ни на Западе — понимания глубокого единства христианского мира. Так что, несмотря на всю полемику, включая и богословско-вероучительные споры, которые лишь обострялись политическими противоречиями, национально-культурными различиями, да и просто неодинаковостью мировоззрения, «возвращение» к потерянному единству оставалось для всех целью, к которой необходимо было стремиться.
Долгое время поиск способов починить то, что называли «разорванным хитоном Христа», занимал умы пап и патриархов, богословов и мыслителей, историков и литераторов, не оставляя равнодушными и светских властителей и политиков.
Несмотря на сравнительно неудачные попытки объединения — Лионского собора 1274 года, и в особенности Ферраро-Флорентийского, созванного в 1439 году, накануне взятия Константинополя неверными-турками, — надежда достигнуть всеобщего единства надолго закрепилась в умах христиан. Неверно было бы сказать, будто все пожелания христианского согласия, высказываемые в разные времена и с разными акцентами на Западе, были направлены против молитв о всеобщем единстве, укорененных в литургической традиции православных церквей.
Именно Флорентийский собор покончил с тем, чтобы и дальше лишь обострять споры, и положил начало более взвешенному рассмотрению спорных вопросов. Ведь в целом православные церкви византийского обряда все еще оставались очень близки Католической церкви, хотя и не признавали ее принципы вероучительного развития. Они целиком сохранили общую с Римом веру, а также иерархическую и литургическую структуру первоначальной, неразделенной церкви: епископов как преемников апостолов, постоянство таинств, почитание Девы Марии и святых. Действительно спорных вопросов (таких как многовековой — в целом уже исчерпанный — спор o filioque, то есть об «исхождении» Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, как гласит римско-католический символ веры) немного, и они не так важны, не считая непризнания вселенской власти верховного понтифика.
В основе своей православные представления о церкви как о «сообщности людей, предрасположенной к Богу и объединенной православной верой, законами и таинствами» (как говорит православный катехизис), очень близки к католическим. Тем не менее в экклезиологии, развиваемой с XIX века (особенно в России), вселенской Церковью, считаются «все те, где бы они ни находились, кто верит в Христа». Главой ее может быть только Иисус Христос, так что не существует никакого «наместника»-викария (которым, согласно учению Католической церкви, является Римский понтифик), но в отдельных церквах могут существовать и викарии, и епископы; кроме того, в отличие от представлений, подобных католическим, где различаются церковь учащая (епископы и клир) и церковь учащаяся (верные), в православной среде начиная с середины XIX века основным является понятие соборности, развитое в особенности в русском богословии: церковь, согласно этой доктрине, должно рассматривать как единый организм, не нуждающийся в безошибочном руководстве, — будь то со стороны папы или собора — в вопросах веры, потому что сама церковь (как и каждый верующий в отдельности) просвещаема Святым Духом. Собор, в свою очередь, хотя и делает зримым единство церкви, не является ни в коем случае «коллективным папой»: его решения должны быть одобрены всеми верующими, составляющими тело церкви, его значение «заключается не в безошибочности в вопросах вероучения, но в том, что он есть средство пробудить и выразить общее сознание Церкви» [2] Algermissen С. La Chiesa e le Chiese. Brescia, 1944; Kologrivof Ide, S. J. Il cristianesimo russo ortodosso. Milano, 67 ; Peri V. La «grande chiesa» bizan-tina. L'ambito ecclesiale dell'ortodossia. Brescia, 1981, (особ. с. 133-170).
. «Даром» безошибочности обладает, таким образом, сама церковь в целом как единый организм, а не один человек (епископ) или группа людей как возможный собор.
Читать дальше