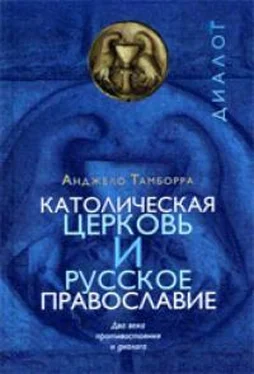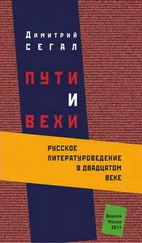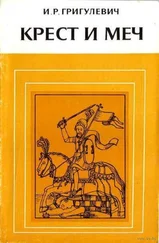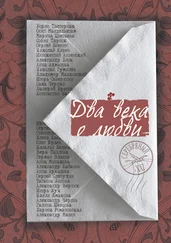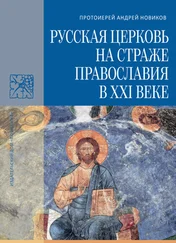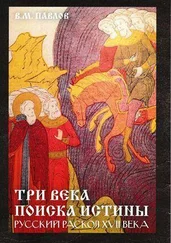Философические письма и
Апология сумасшедшего. Примечательно, что эта публикация привлекла внимание к идеям «крестного отца» русского западничества даже знаменитого Бенедетто Кроче. Затем, также в 1950-х годах, вышла в свет небольшая монография Тамборры
La Russie et l'Europe (Россия и Европа). Церковные и политические проблемы взаимоотношений Католической церкви и России впервые были подняты итальянским историком в работе
Russia e Santa Sede all'epoca di Pietro il Grande (Россия и Святой Престол в эпоху Петра Великого), опубликованной еще в 1959 году. Новым открытием русской темы в Италии стала книга
Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917: Riviera ligure, Capri, Messina (Русские изгнанники в Италии с 1905 по 1917: Лигурийская Ривьера, Капри, Мессина, 1977), посвященная неизвестным представителям русской межреволюционной эмиграции.
Раскрывая глобальные темы, А. Тамборра остается непревзойденным мастером «малых», биографических форм, в чем, безусловно, сказывается искусство скрупулезного исследователя и архивиста. При этом показательно и необыкновенно притягательно с исторической точки зрения, что Тамборра «реставрирует» и заново открывает имена исторических «аутсайдеров», людей, которые при взгляде со «столбовой дороги» истории не сыграли никакой примечательной роли, но которые были движимы своими уникальными, порой яростными и утопическими, идеями и превращали свою жизнь в донкихотскую драму. Сербский католический священник, ставший протестантом, Людовит Вуличевич, апологет «сербизма» и либерального «панхристианства», русский католический священник, монах-варнавит граф Григорий Шувалов, Степан Джунковский, также русский католический священник, выдающийся миссионер, в конце жизни вернувшийся в православие, и, наконец, еще один русский католик — Владимир Забугин, признанный знаток итальянского Ренессанса, блистательный церковный публицист, музыкант и музыковед. Жизненные пути, идеи этих и многих других, признанных и непризнанных подвижников идеи церковного воссоединения, полемистов и примирителей, великих христианских романтиков, собранные в единое повествование А. Тамборрой в его книге Католическая церковь и русское православие, образуют живую ткань истории. Эта воплощенная в идеях, событиях и биографиях историческая полифония вновь свидетельствует о многовариантности происходящего, о неизменном присутствии множества выборов и условности мейнстрима истории, возведенного в канон.
Хронологически исследование А. Тамборры лишь в заключении затрагивает важнейшие события II Ватиканского собора. И в этом, несомненно, видится концептуальный выбор автора. Однако для русского издания мы сочли необходимым продолжить историческое повествование и осветить последние десятилетия XX века, прошедшие со времени Собора, в контексте православно-католических отношений. Надеемся, что здесь не возникнет противоречия замыслу автора, тем более что оригинальный подзаголовок работы Тамборры обещает рассмотреть историю двух веков «противостояния и диалога» «до наших дней». Завершающая актуализация этой драматической истории была предпринята также итальянцем, священником Стефано Каприо, более 13 лет проработавшим в постперестроечной России и бывшим непосредственным свидетелем многих описываемых им событий.
Предлагая книгу А. Тамборры Католическая церковь и русское православие русскому читателю и невольно задаваясь вопросом актуальности этой темы для сегодняшней религиозной и культурной ситуации в России, хотелось бы лишь напомнить два афоризма, два тонких герменевтических ключа к прочтению истории, сформулированных блистательным русским историком В. О. Ключевским: «История не учительница, а надзирательница, magistra vitae, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» и «В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их». Но не только об уроках и ошибках, но и о чем-то еще более значительном, но находящемся за гранью истории, можно задуматься по прочтении книги А. Тамборры. Собственно, о том, что хотел сказать папа Иоанн Павел II в цитате, приведенной нами в самом начале предисловия. Можно заново попробовать переосмыслить парадокс разделенного христианства: сами разделения противоречат изначальному замыслу Основателя Церкви, но они действительно являют исторический путь церкви, раскрывающий вопреки своеволию и косности человеческих деяний несказанное богатство христианской истины на пути к единству. При одном непременном условии, на которое обращает наше внимание сам итальянский историк в завершение своей работы: «Окончательный вывод, лежащий в основе всех экуменических устремлений, таков: не следует смешивать поиск единства с желанием собрать, объединить христианские силы, и точно так же всегда следует твердо помнить о том, что христианское единство — это в первую очередь благо, или «дар», духовной природы».
Читать дальше