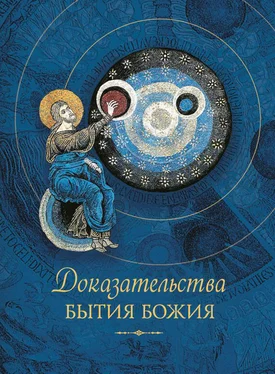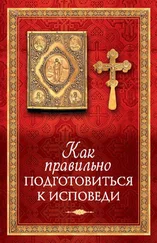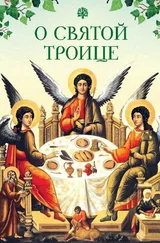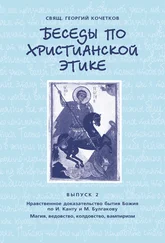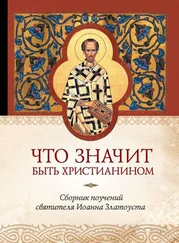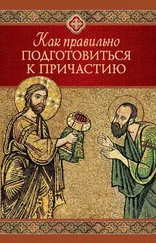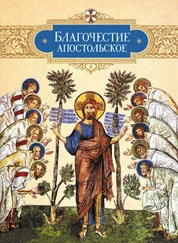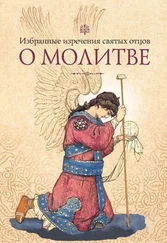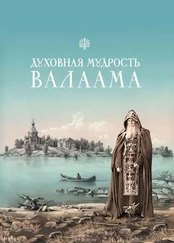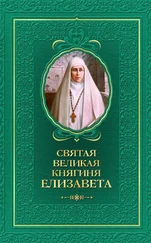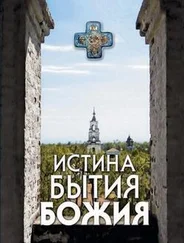Так где же нам искать источник этого столь могущественного принципа, управляющего нашей жизнью? Кант назвал его категорическим императивом и считал, что ему должны подчиняться все люди независимо от происхождения, убеждений и положения в обществе. Каково его происхождение? И если это не наша биология и не социальная среда, значит, его источник вообще вне нашего общества и даже вне природы. Он дан нам Тем, Кто сотворил и нас и весь окружающий нас мир – в Боге.
Кроме голоса совести, в нашей душе есть также и представление о совершенстве, своего рода идеал правильного и нравственного, и стремление его достичь. Каждому на собственном примере известно это, а также и то, что достичь этого идеала невозможно. И в этом печальном несоответствии результатов всех наших трудов и усилий нашему представлению о совершенстве кроется вечный источник страданий для всех людей.
Сам человек не в состоянии установить согласие между требованиями долга и стремлением к счастью. У человека есть стремление к совершенству, но это совершенство недостижимо в этом мире. У человека есть потребность в счастье и в том, чтобы совершенство соединялось со счастьем. Если бы появление в нашей душе представления о совершенстве было последствием какой-то нелепой случайности, тогда, по словам профессора Московской духовной академии В. Д. Кудрявцева, «вся деятельность человека была бы жалким, трагикомическим преследованием теней, стремлением к тому, чего на самом деле нет» [24].
Нравственная проблема получает решение только в одном случае: если признать, что человек – это образ Бога в мире и он призван к богоподобному бытию. Некогда человек обладал царственным величием, которое было вложено в саму его природу. Однако и теперь, после радикального повреждения в нас образа Божия, все пороки, злые дела, слова и желания, которые мучают нас, не смогли убить богоподобность даже в самых закоренелых преступниках, в самых отпетых негодяях. И в их душе слышен голос Божий, который мы зовем совестью, и они испытывают потрясение, когда видят несоответствие сделанного ими с внутренней правдой, скрытой в глубине сердца каждого человека.
Окружающий нас мир не мог породить такого чуда как совесть и стремление к добродетели. И одновременно он не наказывает за пороки и не награждает за добрые дела. «Природа, – говорит Кант, не может установить согласия между добродетелью и счастьем. Это побуждает нас признать бытие причины, отличной от природы и не зависящей от нее. Эта причина должна обладать не только силой и могуществом, но и разумом, – быть такой силой, которая и по мощи, и по воле, и по уму выше природы. А такое Существо есть только Бог. Он и хочет, и может утвердить союз между добродетелью и счастьем» [25].
Так нравственное доказательство от наличия в человеческой душе нравственного закона и представления о совершенстве приходит к наличию у мира и человека Творца, а также к бессмертию души, потому что гармония счастья и совершенства может быть достигнута лишь за гранью этого мира.
Эмпирическое доказательство
Это доказательство можно также назвать нерациональным, потому что оно идет не от рассуждений, но от опыта, который (в той или иной форме) есть у каждого человека. Практически у каждого в жизни бывали случаи встречи с какой-то другой реальностью. Переживания этой встречи порой бывают настолько глубоки, что не забываются годами и даже десятилетиями. Их сложно объяснить логическим путем или найти какую-либо их видимую причинно-следственную связь с окружающей реальностью. Иногда эта весточка из другого мира приходит во время чтения Священного Писания, иногда – в таинственном полумраке храма. А порой случаются и самые настоящие чудеса, которые нельзя объяснить ничем, кроме сверхъестественного вмешательства в нашу жизнь Кого-то столь могущественного, что законы нашего мира не властны над Ним.
Разумеется, субъективные переживания человека не могут служить доказательством в строгом смысле этого слова. Тем не менее именно они способны поставить перед человеком вопрос о существовании Бога во всей его остроте. И подтолкнуть к положительному решению этого вопроса. «Основное переживание религии, встреча с Богом, пишет отец Сергий Булгаков, – обладает (по крайней мере на вершинных своих точках) такой победной силой, такой пламенной убедительностью, которая далеко позади оставляет всякую иную очевидность. Его можно позабыть или утратить, но не опровергнуть. Вся история человечества, что касается религиозного его самосознания, превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку и нелепость, если не признать, что человечество опирается на живой религиозный опыт, то есть если не принять, что все народы как-то видели и знали свои божества, знали о них не из одного "катехизиса"» [26].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу