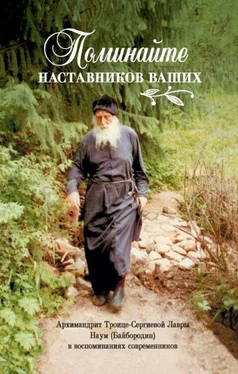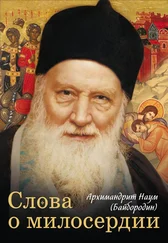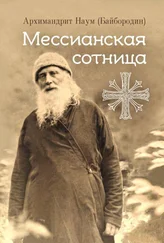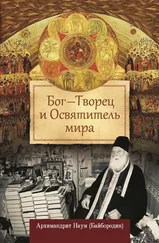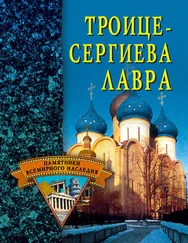Самое первое соприкосновение с батюшкиной прозорливостью произошло сразу же после моего бегства из Израиля. Я стояла у него в приемной вместе с какими-то еще людьми, и он среди беседы задал всем присутствующим несложную задачку, прося произвести арифметическое действие: что-то на что-то нужно было разделить. Я усердно стала в уме делить в столбик, мысленно подставляя цифры, думаю, и другие делали то же. Вдруг батюшка ко мне оборачивается и серьезно говорит:
— А тут можно взять не по 7, а по 8.
Я, помню, ужаснулась тогда, поняв, что все наши мысленные, умственные процессы перед ним — как на ладони. С тех пор я, попадая в батюшкину приемную, старалась всеми силами свое мысленное поле сделать чистым хотя бы на те минуты, когда я была рядом с батюшкой.
Когда я только попала к батюшке, почти сразу же в другом городе умерла моя бабушка. Я, конечно, сказала батюшке об этом, безпокоясь о бабушкиной загробной участи. На что батюшка ответил, чуть подумав:
— Ну, молись, молись.
Я и молилась. То есть просто поминала бабушку в келейной и церковной молитве. Так прошло какое-то время, не помню уж сколько именно, я и позабыла уже о бабушке, так как наступила новая, монастырская жизнь. Тем более не имела даже и понятия о том, чтобы батюшку о бабушке еще раз спросить. Как-то прихожу к батюшке, а он мне неожиданно сам говорит:
— А бабушка твоя уже в Царстве Небесном!
Значит, тогда, сразу после смерти, участь ее была не очень хорошая, раз надо было усердно молиться, а теперь душа ее водворилась в небесных обителях.
Поразительно не только то, что батюшке была открыта загробная участь его духовных чад и их родственников (я знаю еще один случай, когда после смерти человека батюшка констатировал, что душа его вошла в райские обители еще до сорокового дня), но он помнил, болел душой за них — в то время как я сама о бабушке уже и забыла. И, конечно, молился.
Случаев прозорливости, повторяю, было очень много. Но мне особенно запомнился еще один. Это было тоже в самые первые дни моего общения с батюшкой. Я видела, что батюшка многим дарит четки, и мне, хотя я в то время уже была в монастыре и у меня какие-то четки, конечно, были, — мне все же очень хотелось иметь именно батюшкой благословленные четки. Но просто и смиренно признаться батюшке в этом я не решалась, мне было очень неловко. Так я довольно продолжительное время ходила к батюшке, все страдая от своего неудовлетворенного желания. Батюшка, видимо, ждал, когда я в простоте сердца просто возьму и попрошу его благословить мне четочки из его рук. Но я этого все не могла сделать. Однажды прихожу к батюшке в приемную, он начинает говорить о задании для меня: надо взять такую-то книгу, выписать из нее то-то и то-то. Наконец, достает эту самую книгу, начинает ее листать и показывать мне, где и что выписать. Открывает очередную страницу, и я замираю — то ли от восторга, то ли от ужаса: на открывшейся странице висят черные монашеские четки, прямо надетые на лист, наподобие двойной закладки. Книга была большого формата, и, пока она была закрыта, четок видно не было, их длина совпадала с форматом листа. И при этом батюшка ничего не сказал, как будто сам этих четок не замечал (видимо, щадя мою неловкость), а говорил только по поводу книги. Задание я выполнила, четки, конечно, оставила себе, а случай этот врезался в память.
Однажды батюшка в своей келье что-то попросил меня развязать, какую-то упаковку, завязанную сложным узлом. Я с узлом долго возилась, он никак не поддавался, я нервничаю — ведь батюшка стоит рядом и ждет, и я почему-то мысленно сказала сама себе: «Вот неуклюжая». Батюшка сразу встрепенулся, удовлетворенно повторил: «Неуклюжая…» — и отошел, узел и упаковка его уже не интересовали. Видимо, батюшка ожидал от меня самоукорения и, дождавшись его, был очень удовлетворен. О прозорливости я уже не говорю: это было так «естественно».
Особенно стыдно было приходить к нему, имея на совести блудные помыслы, — ведь ему было открыто, что именно это был за помысел. Не раз у меня батюшка обличал именно такого рода помыслы — в то время как самой ведь очень неловко было говорить о них.
Еще был случай «естественной» батюшкиной прозорливости, связанный с крещением моего папы. Папа, как я уже говорила, был «крепкий орешек», настроенный решительно против крещения. Но ведь спасать душу надо было, и батюшка, конечно, молился о папе. Настал такой момент, когда папа чуть помягчел, — в том смысле, что сопротивление его хотя и оставалось еще, но было уже не такое активное, как раньше. И вот в этот момент батюшка благословил папу немедленно крестить, так сказать, «брать тепленьким».
Читать дальше