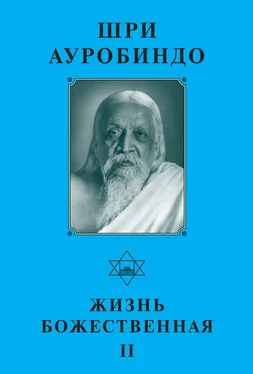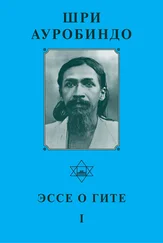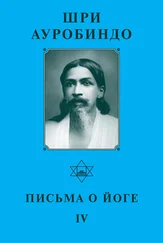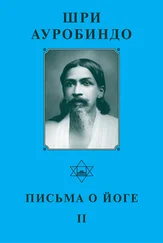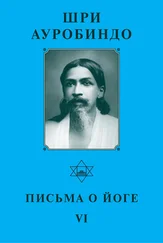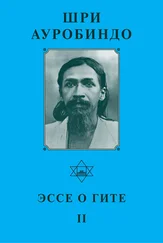На уровне ума еще труднее отделить мыслителя от мышления. Мыслитель погружается в мышление и теряется в нем или уносится потоком мыслей, отождествляясь с ними; обычно не во время или не в процессе мышления он наблюдает или анализирует свои мысли – ему приходится делать это позже, вспоминая ход своих размышлений, или же периодически останавливаться и критически оценивать и корректировать свои мысли, а затем продолжать думать дальше. И всё же, когда мышление не захватывает полностью, когда мыслитель способен отступить назад в ментальное «я» и находиться там, оставаясь отстраненным от потока ментальной энергии, ему отчасти удается мыслить и одновременно сознательно направлять работу ума. Вместо того чтобы быть погруженными в мысли и, в лучшем случае, смутно осознавать мыслительный процесс, мы можем с помощью ментального видения созерцать этот процесс, наблюдать, как рождаются и развиваются наши мысли, и, частично благодаря безмолвному интуитивному пониманию, а частично благодаря размышлению, критически рассматривать и оценивать их. Но необходимо заметить, что, каким бы ни был тип отождествления, мы, познавая свои внутренние движения, как отстраняемся от них, так и находимся в непосредственном контакте с ними: ибо даже при отстранении этот тесный контакт сохраняется; наше знание всегда основывается на непосредственном взаимодействии, на понимании, достигаемом благодаря непосредственному осознанию, которое сопровождается частичным отождествлением. Наш рассудок, наблюдая и изучая наши внутренние движения, обычно склонен отделяться от них; динамическая же часть нашего ума придерживается более непосредственного метода познания и предпочитает тесно ассоциировать себя с ощущениями, чувствами и желаниями: но даже на фоне этой ассоциации может произойти вмешательство мыслящего ума, который, заняв позицию свидетеля, начнет отстраненно наблюдать как за ассоциированной частью динамического ума, так и за самим витальным или физическим движением и контролировать их. Все доступные наблюдению движения нашего физического существа мы тоже познаём и контролируем с помощью двух этих способов – отстранения и отождествления: само тело и то, что оно делает, мы ощущаем очень отчетливо и считаем частью себя, но ум отделен от тела и может отстраненно контролировать его движения. В силу этого наше обычное знание своего субъективного бытия и природы неполно и во многом поверхностно, но при этом оно всё же обладает своеобразной (хотя и ограниченной и относительной) конкретностью, четкостью и непосредственностью. Этот элемент отсутствует в нашем познании внешнего мира, его процессов и объектов: ибо вещь, которую мы видим или воспринимаем, не является частью нас, и подлинного непосредственного контакта сознания с объектом достичь не удаётся; нам приходится использовать органы чувств, дающие нам не непосредственное и конкретное знание объекта, а только его образ, некую исходную информацию, требующую дальнейшего осмысления.
Познание нами внешнего мира основывается на полной отделенности от объектов познания; все его механизмы и процессы характеризуются опосредованностью. Мы не отождествляемся не только с внешними объектами, но даже с другими людьми, которые сходны с нами по природе; мы не можем ощутить их существование как свое собственное, не можем знать их и их движения с той же непосредственностью, четкостью и конкретностью, с какой мы знаем – пусть и не в полной мере – себя и свои собственные движения. Но отсутствует не только отождествление, но и непосредственный контакт; наше сознание, наша субстанция, наше сущностное бытие не соприкасаются напрямую с их сознанием, их субстанцией, их сущностным бытием. И только с помощью органов чувств мы как будто бы непосредственно взаимодействуем с ними или воспринимаем их; зрение, слух, осязание, кажется, позволяют войти с объектом в своего рода непосредственный контакт: но это только так кажется, поскольку подлинная конкретность и непосредственность отсутствуют, ибо с помощью органов чувств мы не входим во внутренний или сокровенный контакт с самой вещью, а лишь воспринимаем ее образ или улавливаем нервный импульс или вибрацию, которую она вызвала в нас. И с помощью этих средств мы должны суметь познать ее. Эти средства настолько неэффективны, настолько скудны, что если бы ими всё и ограничивалось, то мы могли бы познать лишь ничтожно малую часть или не познать ничего или нам удалось бы достичь только смутного и отрывочного представления о вещи. Но, к счастью, в игру вступают три интуиции: интуиция чувственного ума, улавливающая то, что пытается донести образ или вибрация, и ставящая между полученной информацией и объектом знак равенства, витальная интуиция, которая через другого рода вибрацию, порожденную чувственным контактом, улавливает энергию или качественный потенциал объекта, и интуиция воспринимающего ума, которая на основании всех этих данных мгновенно формирует верное представление об объекте. Всё, чего недостает при интерпретации созданного таким путем образа, дополняется благодаря вмешательству рассудка или обобщающего ума. Если бы первоначальная трехкомпонентная интуиция была следствием непосредственного контакта или если бы она сводила воедино работу целостной интуитивной ментальности, пользуясь ее прозрениями, то вмешательство рассудка потребовалось бы разве что для обнаружения или добавления данных, не сообщенных или не переданных чувствами: на практике же интуиция, напротив, имеет дело с образом, с записью, сделанной органами чувств, с опосредованными данными и не опирается на непосредственный контакт сознания с объектом. Но поскольку образ или вибрация представляют собой несовершенную, краткую и обобщенную информацию, а сама интуиция ограничена и передается полусознательным посредником, действующим в тусклом свете, интерпретационная конструкция объекта, созданная интуицией, бывает неоднозначной или, по меньшей мере, неполной. Человеку волей-неволей пришлось развивать рассудок, чтобы компенсировать недостатки своего сенсорного аппарата, неадекватность впечатлений своего физического ума и его неумение объективно трактовать получаемую информацию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу