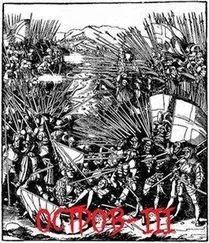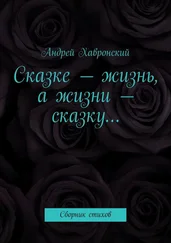— Негодяй! Ты, значит, оскорбил ее? Я сейчас уничтожу тебя, мерзавец!
Сознание возвратилось ко мне. Это был Рушницкий.
Он сделал шаг назад и, оглядев меня, со злобной рациональностью, словно протезом, нанес мне удар в пах. Я инстинктивно отстранился и, завернутый собственной ногой, Николай Иванович свалился. Беспомощно, как таракан в раковине, Рушницкий сучил ногами, вращаясь на месте. Наконец он встал на колено и по своей системе дискретных движений поднялся во весь рост. Словно боксер, вышедший из нокдауна, он бросился на меня с кулаками. Сумасшедшее лицо его было так близко, что я, как через лупу, видел крупные поры на его сером от ненависти носу. Дикие, потемневшие глаза Рушницкого выражали расчет и жажду уничтожения. Я вяло отстранял его руки, но и эта малоэффективная защита обеспечивала надежную самооборону.
Вдруг в лице работавшего Рушницкого произошла неожиданная перемена. Он стал сосредоточенно жевать губами, как живой задвигался кончик его носа, в жестоких глазах появилась растерянность.
— Рушницкий! Вы проглотили челюсть?! — крикнул я в испуге.
— Она ждешь, — невнятно, словно громкоговоритель на вокзале, ответил Рушницкий, показав в разжатом кулаке вставные зубы. И как бы дав мне понять, что перемирие закончено, замахнулся этой рукой для удара.
Я толкнул его в грудь и Рушницкий плюхнулся на скамейку.
Некоторое время он тяжело дышал, а затем откинулся на спину, и лицо его с закрытыми глазами приняло отчетливо трупное выражение.
— Николай Иванович, вы живы?!
Ответа не было. Я наклонился, пытаясь рассмотреть его лицо. Ни дыхания, ни пульсирующей жилки…
— Подите к черту, — четко, с хорошей дикцией вдруг ответил Рушницкий; казалось, что он видел меня через Опущенные веки. (Я понял, что Николай Иванович успел уже вставить себе челюсть.)
— Уходите, — не открывая глаз, добавил он.
«Как можно теперь спать, разговаривать, даже дышать одним воздухом с ним, здесь, в этой комнате?» — спрашивал я себя, открывая дверь и поднимая упавшую записку. При прикосновении к бумажке тело мое импульсивно сжалось и стало холодным изнутри.
«Это — Маша…»
Простой кусочек бумаги с какими-то знаками может заставить человека смеяться, плакать, может принести ему возрождение или смерть. Это — чудо. Этому надо удивляться.
— Конец или?.. — бормотал я, не решаясь заглянуть в будущее, в судьбу.
Щелкнул выключатель, развернута записка — все это делал словно бы кто-то другой.
Я впился в строки.
Печатный ряд без знаков препинания:
«…Григорию александровичу мезенину телеграфь куда девал письмо главка опытном заводе черт тебя дери за твой счет целую бернер».
Мое тело вышло из дома и проволочило ноги до ближайшей окамейки.
Я знал Машу. Возврата к ней нет.
Я сидел закостенев, долго ли — не знаю. Туман, зарождавшийся над набухшей землей, свежесть позднего вечера, возвращали, однако, меня к нормальному восприятию происшедшего. Умный человек тем и отличается от глупого, что с чувством меры соотносит свою реакцию с раздражителем.
Чем-то все это должно же было кончиться!
Пусть не так, но…
Что говорить, получилось все скверно и глупо. Жаль, что рушились чьи-то чужие иллюзии. Но я не программировал такого нелепого развития событий. Как говорят — «судьбе было угодно». Да я и не думал менять свой семейный уклад.
Умна ли Маша?..
В руках хрустнула телеграмма.
Работает ли ночью здесь телеграф?
Была, по-видимому, уже глубокая ночь. Задумавшись, я сидел на лавочке, подняв воротник и уставившись на гигантскую клумбу с разросшимися каннами.
Вдруг я почувствовал, что я не один. Ужас пронизал меня: со мной на скамейке сидели два парня.
«…у парке ночью двое ходють. Враз убивають», — мелькнули в подавленном мозгу слова Лукерьи.
— Сторожем? — спросил меня парень слева.
Я не отвечал. Губы одеревенели, как это бывает после укола дантиста.
— Сиди, мужик, спокойно. Замри.
Я замер.
— Мы тут цветочков нарвем. Не возражаешь? Цветочков?!.. Уф-ф…
— Меня это не касается, — обрел я дар речи.
Парни зашли в клумбу, как кабаны в кукурузу.
С треском ломались стебли-стволы могучих канн. Они вышли со снопами мясистых цветов и рысцой побежали в черноту парка.
Домой.
Хочу домой!
К Зинаиде…
На душе скребли кошки. Как-то теперь мои дела?
Деланно-бодро я взбегал, по лестнице. Навстречу мне трещал каблуками Дуликов. Откуда такая прыть у Василия Кондратьевича? Перевели в ведущие?
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)