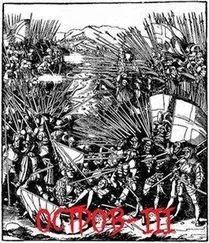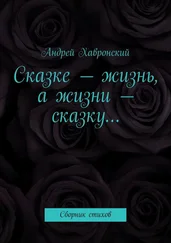— Каррёшь! У-у-у…
Это было похоже на крик птицы. Я обернулся и увидел Амата. Выпуклые, влажные глаза мальчика не замечали меня. Он весь, и телом, и взором, был повернут к машине.
Это была экзальтация упоения и восторга.
Я отступил, оставил их наедине — мальчика и машину — и опять направился к клубу. Туда тянулись туристы. Гасбичадзе, говорили у нас, — это интересно. Они придут сюда.
Я прошел в клуб, сел так, чтоб видеть и дверь, и с интересом стал рассматривать незнакомого мне человека, сидевшего не на сцене, но лицом к публике.
У него было бугристое, красноватое лицо кавказца-блондина с полулысой рыжетцой, пыошего, курящего, любящего себя, досуг, футбол, женщин, своих праздных друзей. В непарадном костюме и галстуке, со скромной медальной ленточкой, расположившейся рядом с головкой авторучки, он походил на администратора некрупного калибра, которые, мнится, составляют почти все мужское население Кавказа Он мог быть заведующим ЗАГСом, банями, председателем Общества глухонемых, четвертым заместителем министра социального обеспечения в горной республике.
Сидя на венском стуле в уважительном одиночестве, он лениво курил сигарету, сбрасывая пепел мизинцем. Между вытянутых ног его торчал гриф гитары.
Публика, быстро заполнявшая фанерную залу, делилась на два сорта. Одни тихо переговаривались, посматривая на Гасбичадзе. Другие, здесь новички, чувствовали себя, как рыба в воде. Рыба эта хохотала, кричала другой рыбе по диагонали через зал, острила, как могла. В каких-то иронических корчах вывертывался аспирантского вида парень в тренировочном костюме и темных очках. В первом ряду сидела крупноносая Бела Григорьевна.
Гасбичадзе потушил сигарету и положил на колени гитару. В зале стало ненамного тише.
Ударами кисти по струнам наотмашь Гасбичадзе взял несколько аккордов. Они прозвучали предупредительно, но это не была проба инструмента. Вслед струнам сиплый тенор повел бессловесную трель. Она нарастала, напрягалась, ввинчивалась спиралью и вдруг разорвалась нечеловеческим криком.
Крик упал, как несчастье. В нем было что-то от крика ишака, что-то надрывное, как последний вопль жертвы, и что-то мистическое и властное, призывавшее к вниманию.
Так начинали свои плачи библейские пророки?
Незнакомо, непонятными словами пел песню Гасбичадзе. Она менялась в ритмах, переходила на полушепот, разливалась, ревела в теснинах.
Возглас пронесся по залу. Будто бы прозвучал жаркий запев Песни песней:
«Я нарцисс Саровский, лилия долин!»
Накаляется голос:
«Стан твой похож па пальму, и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее;
и груди твои были бы вместо кисте винограда,
и запах от ноздрей твоих, как от яблоко»».
Лицо Гасбичадзе было обращено к сидевшей напротив Беле Григорьевне.
«Нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску!» —
казалось, неслись к ней призывные слова мадригала.
«Я — стена, и сосцы у меня, как башни; поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты», —
словно бы молча отвечала певцу надменная Бела.
— Хенн… — как выдох произнес Гасбичадзе неизвест-ное, венчающее какое-то горе слово. Все. Конец…
Каждый в этом зале был теперь одиноким, взволнованным, искренним. Человеком стал аспирант, убравший ненужные очки с растроганного лица.
— Что? Что он пел? — нетерпеливо крикнул он библиотекарше, словно сам Гасбичадзе не понимал по-русски и был здесь чужим.
Да, потрясение, которое еще продолжалось, никак не вязалось с образом человека с авторучкой. Мы даже забыли о Гасбичадзе.
И Гасбичадзе забыл о нас. Он что-то возбужденно шептал Беле, жестикулировал и почти хватал ее за полные, коричневые руки, которые она брезгливо отстраняла. Недовольный тем, что его отвлекли, он быстро вынул из кармана листок и с жестом раздражения сунул его библиотекарше.
— Исполнялась песня на бразильском языке. Читаю перевод, — объявила она угрожающе.
ПРОЩАЯ, ЭУГЕН!
Отцветает капакабана,
Осыпаются огни лепестков катапульты…
На том месте, где ты сидела Ти-ире-е-е!
Я оставил кусочек сердца,
Я оставил клочок души.
Ти-ире-е-е!
Вспомнишь если, сядь к телефону.
Если ты захочешь быть догадливой, всегда услышишь
меня.
Если же нет И если ты в жизни Грешила так же мало, как и я,
То мы встретимся с тобой только в раю.
Неужели ты предпочтешь такую концовку, Эуген?
Если да, тогда прощай, Эуге-е-ен!
Эуге-е-ен!
Эу-ген…
— хенн
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)