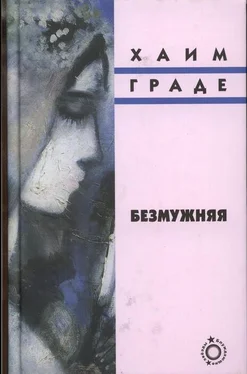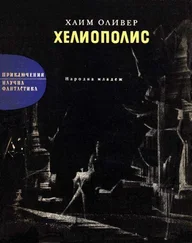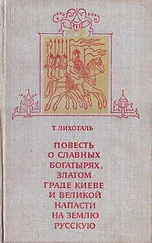Полные слез глаза реб Лейви блуждают по комнате, словно прощаясь со стенами, и останавливаются на больших полках с книгами. Даже в книгах он не будет нуждаться. В юности он был очень усерден. После свадьбы и рождения дочери, когда жену забрали в сумасшедший дом, а он остался один с Циреле, усердие его возросло. Он жил только ради своей дочурки и ради своих книг. Но с тех пор, как Циреле заболела, он редко раскрывал книгу. Он продаст все книги вместе с другим домашним скарбом, чтобы заплатить намного вперед за пребывание Циреле в больнице. А еще потребует от ваада отступных за свое место, независимо от того, кому оно достанется — зятю реб Ошер-Аншла или кому-нибудь другому. Тогда у него будет немного денег и не придется на старости лет просить помощи чужих людей.
В комнату заглядывает Хьена и спрашивает, что приготовить поесть для раввина. «Поесть?» — переспрашивает реб Лейви и думает, что Хьене будет недоставать его. Ей придется искать другое место, придется тяжело работать в большой семье. Она очень привязалась к его дому, и ему жаль, очень жаль огорчить ее. Ему куда легче было бы досадить шурину, чем опечалить эту чужую старушку.
— Так что будет есть ребе? — снова спрашивает Хьена.
— То, что вы приготовите, — отвечает реб Лейви и слышит, как старушка удаляется на кухню. Он еще успеет сообщить ей «благую» весть, а пока у него нет на это сил. Он продаст мебель и книги, но перины и постельное белье оставит Хьене, думает реб Лейви и чувствует, как снова погружается в обморочный сон, в сладостное оцепенение. Вдруг сквозь опущенные веки он видит, как Циреле выскакивает из своей комнаты совершенно голая и прежде, чем он успевает шевельнуться, вихрем проносится мимо него и с хохотом выскакивает на улицу:
— Ага, не устерег меня!
— Держите ее, держите! Она убежала голая! — вскакивает он. Тугоухая Хьена на кухне слышит его крик и в испуге вбегает в комнату:
— Ребе, ребе, что с вами? Я пойду позову соседей.
— Со мной ничего. — Реб Лейви с остекленелым взглядом падает обратно в кресло. — Ничего, ничего, — хочет он успокоить себя и разражается громким, горячим и горьким плачем. — Человек, у которого такая нечестивая дочь, что хочет бегать по улицам нагишом, такой человек не имеет права быть раввином. Я отказываюсь от своей должности, отказываюсь!
После семидневного траура
Всю неделю траура у полоцкого даяна в доме собирался миньян, и соседи по Заречью, приходившие помолиться, торопились радовать его добрыми вестями. Он уже знал, что введен в состав ваада с полным окладом, и прихожане пытались даже выведать у него, останется ли он жить в Заречье или переедет в центр города.
Реб Довид мрачно выслушивал все это и ничего не отвечал.
Днем, когда комната не была занята миньяном, заходили женщины. Раввинша принимала их лежа, одетая, но соседки знали о ее плохом здоровье и не обижались. Они приносили множество пакетов, садились возле раввинши и утешали ее. Она тихо стонала и еще тише благодарила за приношения. Реб Довид с отсутствующим видом сидел в это время на низенькой скамеечке в углу и глядел в маленький томик Талмуда. Но он ни разу не перевернул ни одной страницы и даже, видно, ни строчки не прочитал. Его угрюмое молчание гнало женщин из дома, но и после их ухода он продолжал сидеть в оцепенении, не произнося ни слова.
На исходе недели он неожиданно прервал разговор собравшихся у него прихожан и спросил о злосчастном реб Калмане Мейтесе. Они поспешили ответить, что Калман Мейтес проводит дни траура в квартире покойной жены, где каждый день собирается большой миньян. Он останется там жить, так как сестры агуны не претендуют на наследство. В заработках он нуждаться не будет, домохозяева уже приглашают его красить свои дома. Кто-то из прихожан, чтобы еще больше порадовать раввина, сообщил, что староста Цалье уже не будет больше хозяйничать в синагоге. Он все еще отлеживается после побоев, полученных им, когда его вышвырнули из синагоги, и уж пятая жена, видно, его похоронит. Окружающие стали делать знаки болтуну, чтобы он замолчал: если раввин бежал спасать своего злейшего врага, его может огорчить и то, что побили старого злодея Цалье. Однако реб Довид продолжал сидеть, насупив брови, и ничего не сказал.
Когда прихожане ушли, раввинша хотела было заметить мужу, что он опять накличет на себя несчастья. Эйдл готова была забыть, что ее муж убежал с похорон собственного ребенка, чтобы спасти реб Лейви, потому что этот поступок возвысил его в глазах всей общины. Но если он будет так неприязненно относиться к прихожанам, то они перестанут им интересоваться, а недруги снова воспрянут, — так она хотела сказать, но не произнесла ни слова. Она ощущала его отчужденность, видела, что он стал раздражительным, нетерпеливым, будто вся жизнь ему опостылела.
Читать дальше