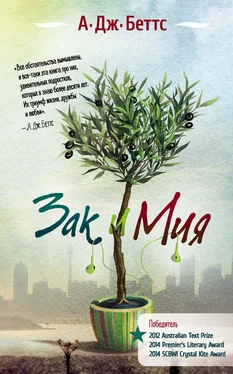Вон он, возвращается с теткой, отбрасывая тень в свете фонарей. Несет пакет с тортильями. Там, конечно, авокадо и сыр.
Бедный Зак. Он все еще думает, что может спасти меня.
Лежа на боку на диване, я наблюдаю, как случайные фары повторяют изгибы реки.
Триша предложила мне свободную кровать, но я настояла на диване. Мне нужен воздух, а здесь можно лежать с открытой балконной дверью. Вот я и лежу. В футболке и трусах. Час ночи. Не могу заснуть, потому что болеутоляющие выветрились.
Я не хочу трогать запас таблеток в дорогу, так что пробираюсь в ванную, закрываю за собой дверь и включаю лампу. Она ярко-белая и слепит. Но под раковиной есть шкафчик. Я опускаюсь на пол.
Полки забиты до отказа: шесть пачек болеутоляющих, пять кодеина, противовоспалительные и снотворное. Я не верю своему счастью. Этим можно обезболить целый полк. Этим можно все закончить раз и навсегда.
– Это еще не вся аптечка, – говорит Триша.
Я бросаюсь вперед, надеясь накрыть телом культю, но слишком поздно.
– Закройте дверь, – шиплю я, ерзая по полу. Свет слишком яркий. Я без джинсов. Без парика. – Что вы тут делаете?!
Ее ответ меня удивляет:
– …вот только антибиотики закончились. Прости.
Я стягиваю с сушилки полотенце, чтобы прикрыться.
– Мне нужен кодеин.
Триша достает баночку, вытряхивает две таблетки и протягивает мне.
– Бери. А завтра сходишь к врачу…
– Врачи дерьмо, – огрызаюсь я. – Ой. Вы же не доктор?
Она качает головой.
– Я юрист. Но среди нас тоже дерьма хватает.
Триша наклоняется надо мной и набирает стакан воды из-под крана, потом садится на корточки и дает мне. Я запиваю таблетки.
– Ты же знаешь, что боль не навсегда? – говорит Триша. – Со временем легчает.
Только этого мне сейчас не хватало.
– Потом поймешь, что с этим можно жить.
Я сверлю взглядом кафель. Откуда ей знать, как с этим можно жить? Стоит тут, с безупречным педикюром, загорелыми икрами, а я должна слушать от нее поучения? Да как у нее совести хватает смотреть на меня сверху вниз, почему она не отведет взгляд, почему смотрит в упор?..
Видимо, они сговорились. Миссис Майер позвонила, сказала что-нибудь вроде не спускай глаз с этой придурошной, она выкрала у Бекки таблетки, может и твои украсть, и вообще ей надо к врачу, а еще лучше домой к матери. И не подпускай ее близко к моему мальчику! Я горю от бешенства и стыда и не могу сказать ни слова.
Триша опускается на кафель рядом со мной и откидывается спиной на створку душевой кабинки.
Вытягивает ноги. Потом достает из баночки еще две таблетки, кладет себе на язык и проглатывает, не запивая.
Белый свет ее не красит. У нее впалые щеки. Ночнушка висит мешком и сверху неестественно облегает грудь. Совершенно плоскую. Там, где раньше взгляд отвлекала золотая цепочка, нет ничего. Она произносит:
– Ты слышала эту историю, в которой семья переехала из Мельбурна в Дарвин, а кот остался? А шесть лет спустя он возник на пороге как ни в чем не бывало.
Я качаю головой. Она такая бледная. Я вижу следы от катетеров. Как у Зака. Как у меня.
– Так и у меня. Шесть лет прошло, а я все жду, что кот однажды снова найдет мою дверь.
Кодеин начинает действовать. Звон в теле понемногу стихает.
– Головные боли так никуда и не делись. Бессонница бывает. Часто волнуюсь. Но мне больше не больно. Во всех смыслах слова.
И я вдруг признаюсь ей:
– Мне больно всегда.
– Есть вещи, которые не изменить, – вздыхает Триша, рассматривая свои руки. – Но есть и те, которые еще можно.
Кодеин успокаивает злополучную ногу. Но у меня чудовищно щемит в груди.
– Это несправедливо, – произносит Триша тем же тоном, что и я в свое время.
– Несправедливо, – отзываюсь я.
– Да, золотце. Несправедливо.
– Несправедливо!
Наши голоса сливаются, и я начинаю реветь, а она обнимает и качает меня, как ребенка, под бесстыже белым светом лампы.
Утром я пристегиваю ногу, надеваю джинсы, расчесываю парик. Краду еще таблеток, но оказывается, что в рюкзаке уже лежит две пачки.
Триша выносит на балкон латте с оладьями, а я не могу смотреть ей в глаза. На ней вязаный топ, который имитирует украденные болезнью формы. Они с Заком передают друг другу сахар и кленовый сироп, болтают про школу, про детеныша альпаки, про новую итальянскую кофемолку. Как будто это важные вещи. Вот они, два человека с общей плохой генетикой, и их волнуют типы кофейных зерен.
Как они так могут? У него чужой костный мозг в теле, а ей отрезали грудь. Как они проживают день за днем, словно все под контролем? Я после операции могу чувствовать только две вещи: жалость к себе и ярость на весь мир. Жалость, ярость, жалость, ярость. Куда ни посмотри – мир полон вещей, которых у меня больше нет.
Читать дальше