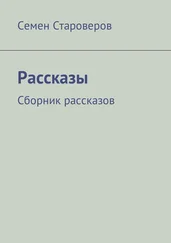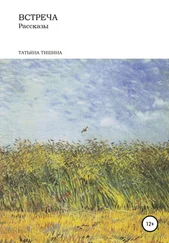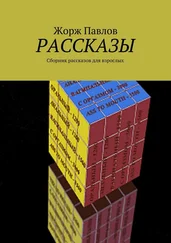Каждый желающий мог бы видеть, как благостный небесный свет укреплял мою веру в мой Орплид и в его особую миссию; всякий раз, когда солнце выплывало из-за горизонта и поднималось по небу, оно тянуло за собой предрассветные сумерки, будто многоцветный шлейф, становившийся с каждой минутой все светлей и прозрачней, оставляя по краям чаши слабое сияние, состоящее из многослойных голубых полос, скрепленных между собой золотыми нитями. Сияние это затопляло гигантскую низину, движимое светом, трепетавшим над лощиной. И хотя к полудню краски тускнели, вскоре они снова начинали густеть, становясь с каждым часом все насыщенней и глубже, и золото все более наливалось багрянцем, пока вечерние сумерки не поглощали все цвета. Тогда люди на полях и в лощине прекращали работу, но вовсе не потому, что устали, проголодались и захотели домой.
Как-то раз я сгребал сено на лугу вместе с девушками, и вдруг Мария Реттберг первой оставила свои грабли и устремила взгляд к небу. Когда остальные тоже подняли глаза, они все хором запели:
Солнца луч закатный,
Сколь прекрасен ты!
Свет твой благодатный
Сходит с высоты.
При этом у них у всех сделалось набожное и мечтательное выражение лица. Обычно же, когда они пели днем, в поле, либо вечером, на улице, все их песни были про любовь и певуньи при этом визжали и хихикали.
Я был твердо убежден, что многоцветные огни не угасают, а продолжают светить, укрывшись за ночной темнотой, только уже не для нас, а для бессмертных, которые именно сейчас просыпаются от сна и тоже должны что-то видеть. Я испугался при мысли, что они со своей стороны могут счесть нас, живущих и здравствующих, злыми духами, и решил при удобном случае спросить у них, так ли это. Ибо с ночи, проведенной среди развалин замка, я твердо усвоил: детей и животных они не трогают.
Когда речь заходит о чудесной игре света, о неподвластных ни перу, ни кисти переливах красок вечернего неба, знатоки превозносят три места как наипрекраснейшие на земле: северо-западное побережье Шотландии в виду острова Скай; горы Таормина на Сицилии с видом на вулкан Этну или над мессинской дорогой — на дальнюю Калабрию; корабль, лежащий в бухте Рио-де-Жанейро с видом на Сахарную голову и на высящиеся за ней горы. Мне довелось побывать во всех трех местах, я стоял, полный блаженного изумления, силясь как можно дольше сохранить в мыслях и чувствах звенящий отблеск красочного света, и, однако же, я должен сознаться, что откровение вечного света на этой земле избрало еще одно столь же прекрасное место — мою родину, для которой лощина служит всего лишь преддверием.
Лощина эта имеет четыре километра в ширину и представляет собой долину некогда протекавшей здесь реки, серебристый восточный склон долины зовется попросту Бранденбургский гребень, а западный склон сплошь покрывают темные леса, доходящие внизу до пустоши Шорфхайде. Мощный поток устремлялся некогда по этой долине к северу, никто не знает, откуда текли воды и почему иссякли; лишь узкая речушка указывает нынче его русло, речушка достаточно, впрочем, глубокая, чтобы мальчику, опоясанному камышовым поясом, брать в ней первые уроки плавания. Должно быть, еще в сравнительно недавние времена здесь ходили большие корабли, иначе откуда бы взяться тяжелым, съеденным ржавчиной якорям, на которые порой натыкаются люди при резке торфа. Якоря остались с той поры, когда маленький холмик, уместивший на себе мою деревню, был, надо полагать, необитаемым островком, торчащим из воды, ибо за деревней, ближе к лесу, луга лежат на том же уровне, что и лощина.
Позади деревни лощина расширяется и захватывает всю просторную равнину до лесов на западе. С ранней весны до поздней осени здесь пасутся стада: коровы, лошади, овцы и гуси. Старые пастухи, чьему попечению деревенские жители доверяли своих коров и овец, наставляли нас в истории родного края, в народной медицине и созерцании времени, чему не сумел бы выучить ни один университет, ибо все, что некогда произошло либо происходило в жизни нашего края, рассматривалось здесь с точки зрения бедного и честного люда: война, мор, голод, императоры, графы, священники, папы. И поскольку оба пастуха враждовали между собой, а мы, дети, были так же бессильны разрешить их извечный спор: кто главнее — коровий пастух или овечий, как в свое время — наши отцы, это избавляло нас от унылого единообразия их суждений о мирской несправедливости, чему, впрочем, содействовало и то обстоятельство, что Кришан, коровий пастух, ставил христианство выше социализма, тогда как Эфраим, пастух овечий, ставил социализм выше. Оба они были достойные, порядочные люди, и будь мастер Тильман Рименшнейдер лично знаком с ними, стоять бы им теперь апостолами подле какого-нибудь алтаря во Франконии и восхищать бы богатых людей своим изображением на книжных страницах.
Читать дальше
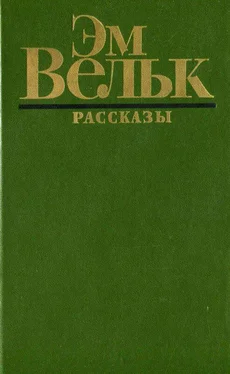

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)