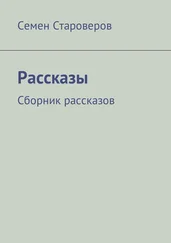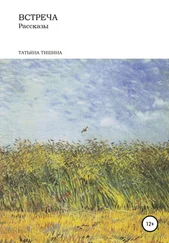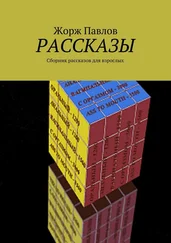Натянутый кое-как при помощи бумажной веревки с добрым десятком узелков рулон выцветшей светомаскировочной бумаги, местами порванной и обтрепанной по краям, занавешивает окно и день и будущее. И не поймешь, да и неважно, то ли штора не до конца опущена, то ли не до конца поднята. И неважно, кто здесь виноват: дочь ли, внук ли, новые ли партии, правительство или державы-победительницы. Советник лишь понял тысячу дней назад, что все происходящее противно порядку и его чувству справедливости и что изменить что-либо в этом он бессилен. Так что лучше просто ни на что не глядеть.
Советник мог бы подлатать штору с помощью бумаги и клея, мог бы привести в порядок ее пришедший в негодность механизм, благо кусок бумаги и клейстер уже можно было достать, и в конце концов он умел кое-что делать своими руками, да и дочь уже не раз об этом просила. Но тем самым был бы нарушен принцип протеста против несправедливости, которую ему причинила судьба. Это уж пусть дочь пытается приукрасить недостойную жизнь, принося время от времени в их жалкую комнату что-нибудь новое: забавный детский рисунок, расписной кафель, настенное изречение, бумажный абажур, или железный подсвечник, или кустарную шкатулку. Лучше бы принесла новую мебель, или хоть новые ботинки, или штаны. Но не стоит быть к ней несправедливым, хорошие вещи — не для простых людей. Стыд и гнев охватывают советника, но через несколько минут выражение лица его смягчается, уголки рта вновь горько опущены. Простой народ, средний уровень жизни. Вот то-то и оно, против этого он и протестует, потому что здесь несправедливость по отношению к нему: разве он создал Гитлера? Он хочет получить обратно то, что имел, что положено строительному советнику в отставке, немцу догитлеровских времен, он хочет все либо ничего!
Своей комнаты советник сейчас не видит и видеть не хочет. Он только знает, потому что три года назад из чувства протеста обмеривал ее, что она занимает площадь четырнадцать и шесть десятых квадратных метров, и только угловая ниша в полтора квадратных метра создает впечатление большого пространства.
Окно смотрит во двор, и, если поднять светомаскировочную штору, с постели советника можно увидеть глухую заднюю стену фабричного здания. Что это за фабрика, советник до сих пор не знает, он только установил, что стена представляет собой деревянную, перекошенную от старости фахверковую конструкцию, заполненную хорошо обожженным кирпичом, и что видная над ней верхушка трубы раскрошилась и скоро должна обрушиться.
Иногда, в задумчивости стоя у окна и глядя во двор, советник видит также старую усталую яблоню, три ветви на ней еще пытаются летом зеленеть и плодоносить. В тысяча девятьсот сорок четвертом году, когда советник сюда въехал, зеленеть пытались целых четыре ветви, однако юные обитатели дома так усердно лазали на них и обирали, что дерево сдалось, и лавочник, которому принадлежала яблоня, ни разу не видел на ней яблочка, которое было бы крупней вишни. Когда на дереве не было детей, там сидела пара сиамских кошек; с терпением, непостижимым даже советнику, они вот уже два года тщетно высматривали хоть какую-нибудь певчую птичку. И неизменно от ствола расходятся бельевые веревки, пять толстых крюков вбили люди в тело дерева, веревки тянутся к фахверковой стене, к стене дома и к дровяному сараю лавочника. И почти всегда на этих веревках висит белье, штаны и рубашки и неопределенного рода постельные принадлежности, и в ветреный солнечный день простыни и полотенца плещутся весело, прямо как флаги старой Германии; если же, напротив, день сырой, мужские и женские рубашки, кальсоны и рейтузы висят печально, как будто сами тут повесились из отвращения к жизни. И всегда во дворе галдеж: то женщины не поделили крюка для веревки, то они ругаются с детьми из-за белья, то дети ругаются друг с другом, то лавочник и его служащие ругаются с женщинами и детьми из-за пропавшей тары. Но теперь вся эта суета во дворе советника не касается, он ничего больше не видит и не слышит, и ему было бы странно, если б кто-нибудь напомнил ему, как два года назад он стоял у окна, погруженный в раздумья о прошлом, и чертежной линейкой пытался для забавы достать одну из кошек на яблоне и даже согнал ее. В то время он еще иногда держал линейку в руках.
Справа от окна, в нише, стоит единственная здесь кровать. Погнутая железная походная кровать, собственность фрау Бентин, включая матрас, о чем она периодически напоминает, чтобы не забывали. Постельное белье принадлежит дочери советника, единственный комплект, который они сумели взять с собой. Он вообще-то предназначался для одной кровати, дочь выгадала из него три спальных места, советнику досталось укрываться толстым стеганым одеялом, мальчик получил вместо одеяла перину. Дочь безуспешно пыталась уступить отцу также и саму кровать, но он отказался, заметив, что ей, как работающей, это нужней, и как бы между прочим подчеркнув, что у него есть своя мебель.
Читать дальше
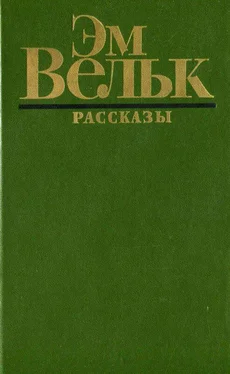

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)