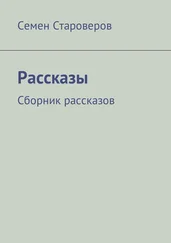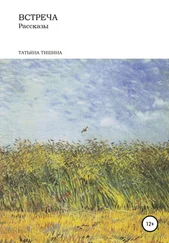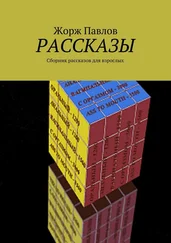Обычно она держит себя в руках и на людях старается выглядеть скорее ироничной, но этот, должно быть, слишком задел ее женскую честь, потому что она открывает даже дверь прихожей, чтобы крикнуть мальчишке еще что-то вдогонку. Увы, там уже отстонали и отскрипели ступени, замерли звуки, и только далеко внизу глухо хлопает входная дверь.
А в ванной все еще бурлит и шипит вода, когда открывается дверь еще одной комнаты и в коридоре появляется попрыгунья номер один, облаченная во фланелевую пижаму. Услышав булькающие звуки, она в комическом отчаянье опускает головку, что позволяет ей не видеть возмущенного лица фрау Бентин. Но не услышать ее слов она, конечно, не может.
— В своей комнате можете делать и позволять себе что угодно, фройляйн Герстинг, — говорит та. — Но коридор — помещение общего пользования, поэтому я бы на вашем месте хоть накинула на себя что-нибудь!
На что балерина, приподняв головку, ответствует:
— Ну, вы же не на моем месте, фрау Бентин. Когда я доживу до вашего возраста, я, конечно, буду что-нибудь на себя накидывать!
— Чего только не приходится терпеть в собственной квартире… — остается лишь возмущенно произнести фрау Бентин. Затем она вновь скрывается в кухне.
Танцовщица уже вернулась к себе, когда дверь ванной открывается, выпуская господина Бергмана, а вместе с ним звуки неторопливого клохтанья канализации, этого домашнего органа, слышного каждое утро по нескольку часов. Жильцы со временем что-то в нем, видно, отрегулировали, ибо поначалу в звуках этих было больше злости, досады, некоторых диссонансов. Попытка советника ввести здесь нечто вроде планового хозяйства, какое-то, что ли, расписание, с учетом потребностей и пожеланий каждого квартиранта, закончилась неудачей, так что пришлось снова вернуться к хозяйству индивидуальному. Но известная последовательность с недавних пор все же установилась, так что сейчас, собственно, очередь учительницы. Советник из своей комнаты прислушивается к звукам за дверью. День для него начался.
День вроде бы как день, похожий на девятьсот девяносто девять предыдущих, и все-таки он не совсем обычен. Потому что он начат под знаком некой осознанной идеи, осознанно будет прожит и завершен: это будет день немого протеста против несправедливости, день сопротивления духа материи, своего рода духовная голодовка против сурового гнета эпохи. Советника никак не назовешь недобитым фашистом или затаившимся недругом нового порядка, советник всего лишь оскорбленный апостол старонемецкой справедливости, своего рода немецкий Ганди: он просто отказывается в чем бы то ни было участвовать! Вот и все. Единство его жизни, которое однажды представилось ему в виде тугой струны, протянутой от предков, что завещали ему прусское чувство долга, до самых последних дней его служебной деятельности, а там и до конца жизни, вплоть до подножья престола немецкого его бога, это единство оборвалось, струна была разрезана, и концы, спружинив, исчезли в тумане; один конец, тот, что, поначалу не без сопротивления, тянулся в тысячелетнее будущее, исчез совсем, другой, свернувшись спиралью, лежит в ноябрьской мгле тысяча девятьсот восемнадцатого года, и в нем еще можно узнать ремень капитана запаса.
В годы Веймарской республики он было опять ухватился за этот конец и год за годом постепенно вытягивал спираль; в тридцать третьем даже показалось, что удастся снова зацепить ремень за крючок консервативно-бисмарковского будущего, пока в тысяча девятьсот тридцать четвертом году какой-то самодур-крайсляйтер не вздумал подвесить на него кинжал СА с надписью «Верность — наша честь» [43] Вероятно, имеются в виду события 1934 года, когда организация бывших фронтовиков «Стальной шлем» была включена в состав СА, нацистских штурмовых отрядов, и прекратила самостоятельное существование.
. На что советник возразил, что к его ремню уже привешена верность, только старопрусская, черно-белая, и тогда крайсляйтер вовсе отрезал ему ремень вместе со служебной карьерой.
Некоторое время после этого можно было еще жить, и жить совсем неплохо, являясь совладельцем инженерно-строительной фирмы, поскольку сооружение военных аэродромов приносило много денег, но в душе оставаться при этом противником системы. В душе и лишь некоторое время, ибо необходимость вынудила в конце концов вступить в партию. Что, естественно, потребовало и участия в шествиях. Что, в свою очередь, естественно, потребовало принять по крайней мере те лозунги фюрера, которые можно было назвать фридрихо-бисмарковскими. Германия превыше всего. Но ведь не более? Вдова Розенталь, полуеврейка, жившая до самого начала войны в доме советника, могла бы подтвердить, будь она еще жива, что с нею всегда здоровались; он оставался прихожанином церкви, а иногда слушал и передачи английского радио. Другим такое революционное прошлое позволило теперь занять высокие посты, но советник этого сам не пожелал, ибо не мог одобрить то, что было потом, и прежде всего то, что сделали с Германией иностранные державы, не мог, и все. Оставалось лишь пребывать в бездействии да оглядываться на прошлое, во мгле которого закручивалась спиралью оборванная струна жизни и, как часовая пружина, то сворачивалась беззвучно, то разворачивалась, хотя один конец ее удерживался еще тяжестью офицерского ремня и звался старопрусской верностью.
Читать дальше
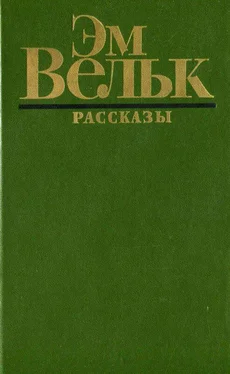

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)