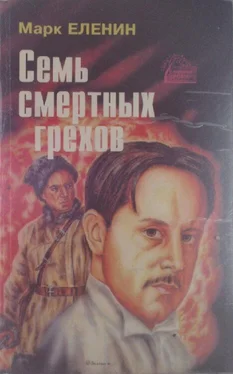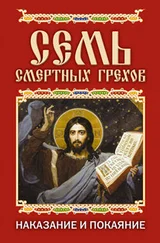Врангель принялся листать запись того совещания, а потом, внезапно вспотев, стал погружаться в один документ, в другой, в третий. Снова обращался к дневнику и опять листал документы: приказы, сводки, справки, рапорты. Он не спал всю ночь, даже не прилег. А к рассвету выкристаллизовался и сформировался простой и трагический для него вывод: он «изобретал велосипед»! План, которому в последнее время отдано столько времени и сил, вчерне существовавший, был уже записан и продуман. Это казалось коварным ударом судьбы, от которого никогда не поднимаются, не встают на ноги, теряют самоуважение, веру в себя. Счастье, что Бог задержал обнародование его Плана, какое счастье! Он стал бы всеобщим посмешищем, мир счел бы его просто сумасшедшим, безумцем, место которому в психиатрической клинике. В подобном положении стреляются! Никто его не поймет. Даже мать, жена, дети. Оставить им письмо? Объяснить? Но что и какими словами? Где он найдет их, простые и возвышенные слова, которые сопровождали его всю жизнь, содержались в каждом приказе войскам, в каждой его речи и перед коронованными особами, и перед простыми казаками, готовыми поднять бунт...
Едва рассвело, не дожидаясь, пока поднимется служанка, Врангель выбежал на улицу. И походил — без мыслей и чувств, как сомнамбула, — по всем южным окраинам Брюсселя. Возникло видение — явственное, будто происходящее на самом деле. Он идет, склонившись вперед, навстречу ветру; ветер, как чья-то огромная длань, упирается ему в грудь, затрудняет дыхание, отодвигает в сторону. Часто кажется, рука эта одушевлена. Она, как гоголевский Нос, живет своей особой жизнью, она мыслит, больше того — выполняет чью-то злую волю. Смять его, смести, сравнять с самым ничтожным из беженцев — вот ее задача. Иногда рука, казалось, принимала ненавистные обличья: то коварнейшего Милюкова (врага русской армии номер один!); то старого сподвижничка Кутепова (он его всегда фельдфебелем считал, а тот уже в Наполеоны рвется, не остановить); то мудрого попа Антония, поднявшего смуту в русской церкви и немало преуспевшего в его изгнании из Югославии; то черносотенного идиота Мар-кова-2-го, который в каждом готов видеть либо еврея, либо калмыка, немца или другого иноверца. Он и Врангеля ненавидит, хотя и глядит с подобострастием... После «видения руки» Врангель пошел столь быстро, что со стороны казалось, он бежит от чего-то в испуге. Врангель не мог вспомнить, когда это началось, с чего и где именно. И еще в эти моменты мучила его неотвязная мысль о том, что он все же поторопился добровольно оставить пост главнокомандующего, снять мундир, облачиться в сюртук и переехать с одних задворков Европы на другие, в Брюссель...
Вернувшись и стараясь быть незамеченным, чтоб избежать обязательных сочувствующих вопросов, проскочил к себе, отказавшись от обеда и приказав принести ему в кабинет лишь бутылку коньяка и кое-какой закуски. В тот момент представлялось наиболее важным уйти от нежелательных встреч и вопросов. Впервые в жизни Врангель сильно опьянел. Он почти ничего не ел, прикончил бутылку «мартеля» и тут же заснул на диване, не потрудившись ни затворить окно, ни накрыться шотландским пледом, лежащим рядом на спинке кресла-качалки.
Проснулся он среди ночи от холода. За окном посвежело: шел густой и крупный снег. Голова болела. Он встал, нашел и допил рюмку оставшегося коньяка, чтобы согреться, и лег, всем существом ощущая свою несчастность, ненужность жизни, которую придумал здесь для себя, усталость от всего того, что он уже свершил, и ненужность борьбы за то, что ему хотелось еще свершить. Жизнь человеческая коротка, а он отдал ее целиком чужим людям и их интересам, думая, что руководит ими.
Размышления теряли конкретность, размывались. Врангель дремал. Ему стало душно. Он сбросил плед, но не встал, ощущая необыкновенную слабость, боль в висках, ломоту во всем теле.
...Внезапно представился отец — высокий, с непременным моноклем в правом глазу, — подошел близко, строго глядя и обидно усмехаясь. Губы его начали шевелиться, произнося гневные слова. И вдруг как будто кто-то быстро отодвинул его далеко. Он стал маленьким, бедно одетым стариком, копающимся в развалах Александровского рынка, среди старых вещей и хлама. И такое ведь было в действительности... «Зачем вы тут, отец? Что скажут люди?» — крикнул Врангель. Отец все же услышал. Хитро улыбнулся, сказал громко: «Здесь настоящее золотое дно Петербурга, Петр. Не одна жемчужина скрыта от наших глаз. Рерих, которого я часто встречаю, собирает здесь старых фламандцев, Дел я ров — помнишь его? — бронзу эпохи Ренессанса. Для настоящего коллекционера нет стыдного или бесстыдного. Остальное — химеры...» Отец зарывался в хламе, исчезал, как ящерица в песке...
Читать дальше