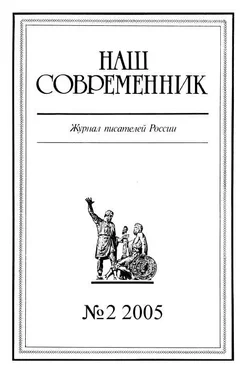Сегодня, когда церкви полны молодежи (что не могут не замечать и власть предержащие), когда возводятся новые храмы, некоторые зоркие «правдоискатели», «газетные звонари» не находят православных в России! Это ли не проявление нигилизма, который старательно обеляют такие, как вышеназванный прогрессист? И это — в то время, когда молодежь наша явно тянется к вере предков (пo данным ВЦИОМ, преобладающая часть молодежи 15–25 лет считает главными в жизни ценностями — христианские).
Священник Димитрий Дудко в статье о воине Евгении Родионове, принявшем мученическую смерть за Христа, писал: «Это подвиг редчайший. С одной стороны, его (Евгения. — Т. О.) смерть вызывает скорбь, с другой — вселяет бодрость. Константин Великий увидел крест и сказал: „Сим победиши“… Видя то, чтo совершилось, говорим: „Только верой мы победим“. Потому что, если оглянуться вокруг, ничто нас не спасет. Действительно, человек жил среди нас в очень трудное время, пожалуй, более трудное, чем советское, когда было безбожие. Безбожие вынести легче, развращение — труднее. Но он в развращённое время сохранил веру… Казалось бы, от него требовали немного — снять крестик…Если есть такие люди в нашей стране, значит, Россия не погибла и не погибнет никогда»!
И еще — если есть такие матери, как Любовь Васильевна Родионова, которой о. Димитрий говорил великое спасибо от всех нас. Власть, по признанию самой солдатской матери, не сказала ей спасибо за убитого сына. О. Димитрий в той статье желал матери воина-мученика здоровья и сил вынести этот крест, тяжелый, но и спасительный. И эта женщина из подмосковного поселка совершила подвиг. Бог, как она сама говорит, дал ей награду — помогать защитникам Отечества. Двадцать пять раз возила она нашим солдатам в Чечню посылки: продукты, варежки, ушанки — всё, что собрали люди по храмам (ведь власть не торопится им помогать).
Маленькие великие люди — они действительно способны своими усилиями, говоря лесковским языком, «увеличить сумму добра в общем обороте человеческих отношений», своим мужественным примером дать нам надежду на выход из «состояния, похожего на разложение». Не потому ли писатель всю жизнь старался бороться с теми, кого он называл «соблазнителями смысла»? «По мне, пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, — говорил он, — но пусть не печатают того, что портит ясность понятий… Для меня всего дороже: я не должен „соблазнить“ ни одного из меньших меня…».
Но вернёмся к конкретным проявлениям нынешнего нигилизма. Как уже отмечалось, критик Л. Аннинский вот уже много лет «бегает кругами» вокруг знаменитого сказа о «Левше», раздувая мотив подкованной, но не прыгающей блохи. Кстати, здесь открыватель этой «блохи» не оригинален, он, похоже, принял ее по наследству из рук своего предшественника Акима Волынского (Флексера), которого называет «блестящим критиком». Этот последний, один из типичных «циников либеральной идеи» (М. Меньшиков), сразу же после выхода «Левши» в аксаковской «Руси», начал попытки уколоть «стальную блоху», поиздеваться над сказом (якобы «в стиле безобразного юродства») и над самим автором, обвиняя его в «национальном самохвальстве». Впрочем, укусить «стальную блоху» оказалось ему явно не по зубам, и он «укусил» самого себя. Биограф Лескова А. Фаресов писал об эстетической глухоте критика.
Всё это всплыло в моей памяти недавно, когда всё та же «блоха» выскочила на меня с лотка уцененных книг на рынке. Опус Аннинского «Три еретика» валялся на книжном развале рядом с сомнительного качества учебными пособиями по истории. Что могут дать молодому читателю такие, с позволения сказать, пособия по литературе, где живое слово русской классики без конца называется «текстом» и даже «колдовским текстом» (это о лесковских «Соборянах»!). «Колдун» старается приравнять классику к современным средненьким сочинениям, например своего друга и корреспондента, типичного «букеровца» Г. Владимова (см. их переписку: «Знамя», 2004, № 3). Букеровец называет нашего вечного искателя «блох» у русских классиков этаким «стройным кипарисом» на скудных полях российской критики, а этот «стройный кипарис» величает своего друга-эмигранта «великим писателем». (Творчество Лескова таких лавров, насколько я помню, не удостаивается. Правда, в одном письме критик поминает-таки Лескова, приписывая ему свое грязноватое словцо.)
Он пытается заставить Лескова смотреть на русскую жизнь из некоего выдуманного им самим черного «нутра». Уже давно в духе «плюрализма» и «гласности» он выискивает у Лескова то, в чем ему видится первобытная русская «дурь», варварство, кочевой дух. Эти «искания» нацелены прежде всего на положительных героев (а вместе с ними — на русских людей, которые служили их прообразами). Он пытается «доказать», что, дескать, «дурь и праведность мешаются» («выворачивается сила в противоположную дурь»); «черное и белое меняются местами, непримиримое сходится, враги, ведущие войну насмерть, оборачиваются близнецами». Критик выводит тип какого-то оборотня и чуть ли не ставит знак равенства между таким персонажем из «Соборян», как нигилист Варнава (с его кощунственными экспериментами на трупе, чтобы «доказать», что души нет), и героем-богатырем дьяконом Ахиллой. («Чего, кажется, воюют и спорят из-за костей дьякон с учителем? — они ведь равно прекрасны в своей плутовской изобретательности и более похожи на двух гимназистов, неразлучных в озорстве, чем на действительных противников».) Нигилист-безбожник у него оказывается «сотканным из того же… материала, что и герой». Герой и даже — подвижник, который всей своей жизнью утверждает истину «Совершенная любовь изгоняет страх» (как говорится о «несмертельном Головане» в одноименном рассказе, орловском «простом человеке», который входил во время морового поветрия в зачумленные лачуги и спасал людей).
Читать дальше