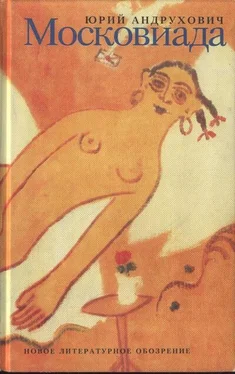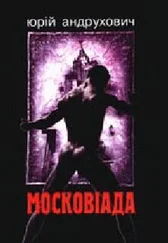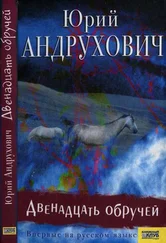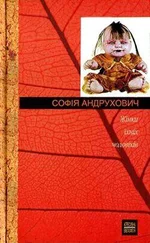Но это я во всем виноват. Я накликал этот дождь, совершив сегодня утром, в душевой, магическое действо с неведомой темнокожей жрицей. Так мне и надо. Я горжусь этим.
Подходишь к столику, где твои побратимы по перу обновили еще раз трехлитровую банку, опять наполнив ее.
— И поэтому я наполовину, — заканчивает Юлий Цезарь долгий и запутанный рассказ о своей национальной принадлежности.
Пора бы уже отсюда выгребать. Разговор с друзьями попал в коллаптическую безысходность. Никто толком не понимает, что хочет сказать, но каждый что-то говорит. Это скорей разговор четырех имбецилов, которым просто нравится произносить определенные слова — прекрасные, возвышенные, а также паскудные и низкие. Они радуются звукам. Слова не держатся вместе, каждое из них живет своей пьяной отдельной жизнью. Потому что каждый из вас — мастер художественного слова. Отдельного художественного слова.
И дождь, дождь, который не утихает, и рожи, рожи, их все больше, они размножаются делением и плавают вокруг вас, как рыбы, глубоководные плоские рыбы со дна самых черных океанов.
Но все ворота уже распахнуты, и вы стоите на сквозняке, на лютом азиатском ветрюгане, который сносит пену со столов и банок. Эта страна еще производит кое-что. Например, летящую пену с кислым тошнотным запахом.
Тебе плохо, фон Ф. Тебя знобит. И тошнит немного. Пора бы уже отсюда выгребаться. «Детский мир» ждет, Кирилл ждет, Украина ждет, измучившись без своей газеты в Москве, а ты тут треплешь глупым языком о святой обязанности каждому идти своим отдельным путем. Ибо что объединяет тебя с узбеком за стеной, кроме стены? С узбеком, который вечно готовит плов и потом заманивает на его жирный запах не одну голодную студентку. И запихивает ее пловом, набивает ее пловом, как пугало опилками, и она цепенеет, делается пугалом, и тогда он жарит ее, а у нее изо рта, и из ушей, и из носа сыплется плов. И что объединяет тебя с Худайдурдыевым, понурым и толстым, как евнух, в связи с чем кое-кто называет его «худой Дурдыев», с туркменом, который каждый вечер, ровно в девять, в спортивных штанах вырастает перед телевизором, потому что нет жизни ему без программы «Время»? И что объединяет тебя с Ежевикиным, входящим в чужие комнаты без стука, так как считает себя хозяином всех просторов — от Карпат до Тихого океана? И что объединяет тебя с Благолеповым, у которого тесть — генерал Кагэбэ, но, несмотря на это, Благолепов пишет духовные стихи про Сергия Радонежского, дышит по системе йогов и называет себя учеником Рериха, хоть на самом деле все уверены в том, что он стукач? И что объединяет тебя с Шурой Гороховым, который ищет универсальный знак бытия так, что забывает отдавать занятые деньги? И что объединяет тебя с Олегом Сексопатологом, который выучил французский язык только для того, чтобы читать «Войну и мир» в оригинале? И что объединяет тебя с Пашей Байстрюком? Что объединяет тебя с каждым из них и со всеми другими?
— Каждый из нас одинаково дышит, пьет, любит, воняет, — произносит нечто тайное Юра Голицын.
— Значит, мы созданы для того, чтобы быть вместе. Мир объединяется во имя общечеловеческих ценностей, — вторит ему Ройтман. — А мы?
— Тебе легко про это булькать, помня, что, на всякий случай, где-то там, на Ближнем Востоке, у тебя есть свое государство, свое отдельное государство…
— А государство — это монстр, это стихийное бедствие, — потрясает хемингуэевской бородой Цезарь.
— Почему вы, националисты, так стремитесь разбежаться? — спрашивает Голицын. — Почему вдруг всем так припекло расстаться? Ведь у нас много общих детей! Ведь это великое свидетельство братства, когда все вместе делят общую беду. Почему, националисты, скажите мне?
Каждую из высказанных фраз он четко отделяет иканьем.
— Если бы я был националистом, я ответил бы тебе, — медленно и выразительно говоришь ты, даже слишком медленно, слишком выразительно. — Но какой из меня националист, когда я тут с тобой пью пиво?
Эта логика несокрушима. Голицын подает тебе руку и долго сжимает твою. Он славный парень. В нем нет ни капли идиотского имперского шовинизма. Но он оченно любит братство. Свободу. Равенство.
— Вчера вечером я подумал о том, что Бога нет, — грустно информирует Ройтман.
— Вчера вечером? — удивляется Воробей. — Ты обязан думать так всегда. Согласно уставу твоей блядской партии, к которой принадлежишь…
— При чем тут партия? Дело не в этом. Я подумал, что Бог, настоящий Бог, а не надуманный, фиктивный, никогда не допустил бы существование наций…
Читать дальше