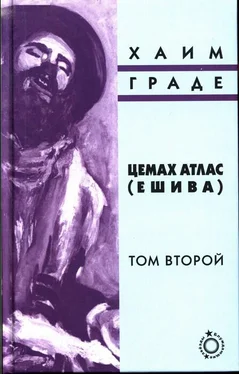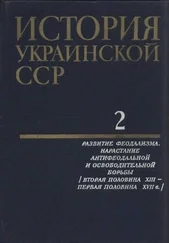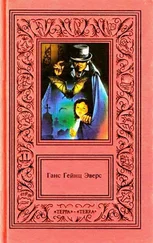— Это просто упрямство, — сказал Цемах.
— Не верю, — хохотнул реб Авром-Шая буднично и сухо, как смеялся обычно тогда, когда видел, что комментаторы наворотили целые горы замысловатых объяснений по поводу какого-то вопроса, вся запутанность которого проистекала из простой опечатки. — Не верю, что разумная женщина из состоятельной семьи согласится так долго мучиться, только чтобы настоять на своем. Я скорее поверю, что она страдает потому, что любит вас. Само по себе это говорит о ней как о достойной женщине. Вы требуете, чтобы она взяла разводное письмо. А если она возьмет его, разве это исправит ее поломанную жизнь? И, зная о том, что вы разрушили ее жизнь, вы надеетесь преуспеть в занятиях со своими учениками?
Устав расхаживать, реб Авром-Шая снова присел на свое место, оперся локтем о стендер и сжал пальцами виски.
— Конечно, я понимаю, что быть аскетом и совсем не иметь дела с миром легче, чем быть лавочником, купцом, ремесленником, — и все же оставаться посторонним, чужим в этом мире. Но путь Торы — именно этот трудный путь: жить в этом мире вместе со всеми и все-таки оставаться аскетом в мыслях и в сердце.
— Чтобы быть человеком такого рода, не следует говорить окружающим правду, — глаза Цемаха загорелись, как последние искры в пепле.
— Конечно, не следует! — нетерпеливо воскликнул реб Авром-Шая. — Кроме исключительных случаев, когда нельзя смотреть и молчать, мы ничего не должны говорить ближнему относительно его характера и поведения, пока он не спрашивает нас и пока мы не уверены, что он спрашивает, чтобы улучшить свой характер и поведение. И даже в таком случае мы не должны ему говорить больше того, что он способен постичь и переменить в себе.
Синагогальный служка просунул голову во внутреннюю комнату и позвал на предвечернюю молитву. С тех пор как на улице потеплело, миньян молился в большом зале. Молящиеся были торговцы рыбой с ближайшего рыбного рынка, несколько лавочников, пара ремесленников. Кантор, стоявший на биме, торопился, и сразу же после предвечерней молитвы молящиеся разбежались, погруженные в заботы кануна Пейсаха. Только реб Авром-Шая остался стоять в углу у восточной стены, погруженный в молитву «Шмоне эсре». Цемах смотрел на него из-за бимы и думал, что Махазе-Авром действительно ведет такую скрытную жизнь, какую советует вести другим. Он молится и изучает Тору среди бедных простоватых евреев, которые, вероятно, способны оценить его деликатное поведение, но не понимают его учености.
Несколько окон синагоги выходили на располагавшееся среди холмов большое поле с двумя маленькими круглыми прудами для разведения рыбы. Лучи солнца играли на воде, как в смеющихся глазах, в которых еще не просохли слезы. На той стороне долины стоял высокий белый костел с двумя еще более высокими башнями по бокам. Заложив руки за спину, Цемах смотрел в окно и думал о Хайкле-виленчанине, который, наверное, много раз отвлекался от изучения Торы из-за этих двух прудов. Ведь в Хайкле очень сильно чувство прекрасного. Однако Махазе-Авром полагал, что можно удержать ученика в таком большом и пустынном зале синагоги, изучая с ним Гемору и труды комментаторов. Точно так же Махазе-Авром считал, что, будучи суетливым лавочником, можно внутри себя оставаться вне мира.
Реб Авром-Шая отошел от восточной стены, порозовевший, словно от молитвы у него прибавилось здоровья. Он надел пальто, взял в руку палку и встал напротив гостя за бимой.
— Глава наревской ешивы написал мне письмо со своими новыми комментариями на Тору и, между прочим, упомянул, что Хайкл-виленчанин вел себя недостойно. Что значит «недостойно», он не занимался учебой?
Цемах долго рассматривал свою бороду, прежде чем ответить:
— Когда мы прежде разговаривали о моих учениках в Нареве, я вам рассказывал об испортившемся сыне логойского раввина. И именно с ним Хайкл-виленчанин завел дружбу. Потом случилось нечто еще хуже. Когда моя жена приехала в Нарев, Хайкл проявил к ней излишнюю симпатию… Он стыдился этого перед товарищами и в результате перестал ходить в ешиву. Повод дала она, начав прогуливаться с виленчанином и с логойчанином, чтобы я был вынужден вернуться с ней в Ломжу. Если бы вы не получили письма от главы наревской ешивы и не спросили меня, я бы не смог заставить себя рассказать об этом.
— Хайкл уже уехал из Нарева? — спросил реб Авром-Шая после долгого и тяжелого молчания.
— Он вернулся в Вильну вместе с логойчанином. Ешива дала логойчанину денег, чтобы он уехал, — Цемах на секунду умолк. — Задним числом, может быть, оно и лучше, что вы все знаете. Вы раньше сказали, что моя жена — достойная женщина, теперь вы сможете правильнее судить о ней… Истины ради я должен добавить, что у меня нет никаких оснований подозревать, что было нечто большее, чем я уже сказал. Просто, болтая дома и на улице с этими двумя парнями, она хотела вынудить меня вернуться вместе с нею в Ломжу.
Читать дальше