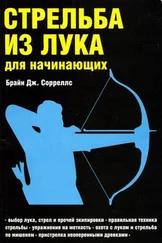Просыпался после таких снов взбешенный. С усилием разжимал стиснутые зубы. Ждал, когда угомонится сердце.
Что-то неладное происходило с ним после тифа. Должно быть, яростный тифозный огонь прожарил его насквозь. Когда окончательно ожил, почувствовал себя странно: жестокая сухость, злая остроугольность засквозили не только в каждом его движении, жесте, но даже и в мыслях, даже в манере говорить.
Он явился в Чека в день выписки, но был еще очень болен.
Ему бы отлежаться месяц-другой, а не гоняться за бандитами, но для него это было немыслимо.
Тощий, с торчащими скулами, до голубизны обритый, с ввалившимися глазницами, он являл собой сгусток почти патологической ненависти ко всем врагам Советской власти, которых он и воспринимал-то как своих личных, кровных врагов.
У него были на то резоны.
Год назад в составе петроградского продотряда он подавлял кулацкое восстание. С ним вместе был и его лучший с детства друг. Ваня Мясищев — рабочий с «Треугольника».
Ваня погиб.
Они не сразу нашли его, а когда нашли — не сразу опознали: у Мясищева были отрезаны нос и уши, вспоротый живот набит розовым от крови зерном. И записка была штыком приколота к груди: «Подавись!»
Когда, потрясенные, стояли вокруг Ивана, многие отворачивались. Тренев же, напротив, глядел не моргая.
В продотряде было четыреста человек. Погибло семьдесят семь. По-разному гибли, не только от пуль: одних кулаки совали головой в молотилку, других волокли, привязав к саням, от деревни к деревне, иных приколачивали двенадцатидюймовыми гвоздями к дверям контор, иных — рвали надвое на березах…
Тренев не трещал на груди рубахой, не выступал на митингах про гидру контрреволюции, — он молчал, с каждым разом нее страшнее и каменнее. Лишь черствело лицо да все глубже уходили под лоб сияющие глаза.
В отряде его прозвали Немой.
Он молча носил мошки с изъятым зерном, молча шел в атаку, когда случались перестрелки, молча «приводил в исполнение». Горючая ненависть копилась в нем — и судорогой, как петлей, перехватывала гортань.
Сразу же по возвращении в Петроград ему привелось вместе с отрядом чекистов участвовать в ликвидации офицерского заговора в Михайловском артиллерийском училище. На его злобное бесстрашие, на пренебрежение к пулям кто-то обратил внимание — так он попал в ряды Чека.
…В поисках Ваньки с пятнышком он, почти не таясь, обошел все известие петроградские малины. И — немыслимое дело! — ни у кого не поднялась рука на этого каменного в своей исступленности человека, вторгающегося в тайная тайных воровского мира.
Его, конечно, спасло, что с чьей-то легкой руки его сразу же посчитали за «кровника» Ваньки с пятнышком. И никто не завидовал Ваньке, едва заглядывал в безумные провалы треневских глаз.
Ваньке, понятно, тотчас же донесли, что кто-то его разыскивает. Добавляли: «Чтобы посчитаться за что-то».
Бандит «лег в берлогу», хотя так и не вспомнил, что это за полудурок и какие когда у него были дела с ним. Мало ли, в конце концов, обделил он в своей жизни корешей? Мало ли блатных лопали баланду, предназначенную ему? Да и не время было храбрость показывать. Склеивалось дело — такое дело, какого воровской мир не знал испокон веку. Пусть блат считает, что Ванька с пятнышком перепугался, но рисковать ему сейчас не резон.
А Тренев зло рыскал по городу — безрезультатно, безрезультатно, безрезультатно!
На совещаниях у Шмакова говорил кратко и неохотно: «Пока ничего нет…» — в подробности не вдавался.
8. ВЯЧЕСЛАВ ДОНАТОВИЧ ШМЕЛЬКОВ
Шмельков, по обыкновению, работал осторожно и аккуратно. Тихонько прощупывал он обычное окружение Ваньки с пятнышком — так опытный врач пальпирует тело больного в поисках опухоли. И уже через несколько дней Шмельков знал: Ванька — в городе, но нигде не появляется. Последнее обстоятельство не понравилось Вячеславу Донатовичу больше всего: так Ванька поступал перед самым началом «работы».
Но особенно удивился, даже взволновался Вячеслав Донатович, когда узнал, что на квартире Нюрки Бомбы появлялся Феликс Парвиайнен, Борода, — известный контрабандист, а в последние годы и проводник через финскую границу. Борода во всеуслышание ругался: «Сколько я можна ждать этот Ванька?»
Это было достойно глубочайшего изумления: Ванька решил «рвать нитку!» Но не с тем же золотишком, которое валяется, как он хвастал недавно, у него в сарае? Стало быть, дело, «от которого все ахнут», вот-вот свершится, и дело это, судя по всему, действительно крупное?
Читать дальше