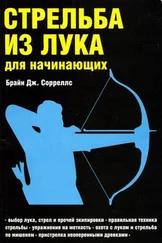— Только не говори, пожалуйста: «Я вернусь, я вернусь!» Просто — вернись.
…Поезд пришел в тот южный город, где Надя жила на каникулах, под утро.
В зале ожидания было душно, вонливо, плакали дети.
Черные люди во множестве спали на скамейках, на полу, на подоконниках, на грудах мешков, фруктовых ящиков, чемоданов. Негде было не то что присесть — ногу поставить.
Он кинул за плечи рюкзак — неким жестом бывалого в походах человека — и пошел на улицу.
Вплотную к вокзальной площади слепой грозной белесой стеной стоял туман.
Похоже было на осажденную крепость.
Люди мыкались бестолково и бессонно, держась поближе к тускло освещенным окнам вокзала, и лишь очень немногие, только что сошедшие с поезда, торопливо, словно спасаясь, бежали наискось пустого пространства площади и — мгновенно пропадали в тумане том, как погибали.
Шел январь, самый конец января. В Москве, когда он уезжал, стояла пасмурная грязноватая слякотная зима, а здесь, похоже, была уже весна.
Легко, голодно, совсем не по-зимнему дышалось. Воздух был сладок, ясен и, должно быть, очень чист. От этого воздуха немного кружило голову, и он временами слышал, как сильно, с удовольствием, с наслаждением бьется внутри него его собственное сердце.
Хотя рюкзак, как сказано, он и закинул за плечи жестом бывалого человека, но надо сказать, что это было едва ли не первое — по крайне мере, первое в одиночку — столь дальнее путешествие его и поэтому возбужденно-бодрая смесь боязливости и любопытства, восхищенной тоски и бесприютности, первооткрывательского восторга и сожаления о покинутом покое, предвкушений счастья, что ли, любви что ли… — эта дивная, молодостью сброженная смесь этих и еще многих других, неназываемых словами чувств переполняла его.
Он стоял возле стен вокзала, глядел на стену тумана, а когда поймал себя на том, что ему почему-то страшновато уходить от освещенных окон в эту бесприветную гущу — он тотчас же, азартно и легко переломив это боязливое внутри себя, безрассудно пошел через площадь к стене тумана, потихоньку, отчетливо ликуя от детской этой победы над детским этим страхом.
Ни один фонарь не горел. Темно, однако, не было. Все было видно, но требовалось усилие, чтобы видеть.
Однообразно одноэтажные шли вдоль улицы дома. В крохотных двориках, сплошь и дрянно застроенных какими-то времянками, густо оплетенными задеревеневшей мертвой лозой винограда, было и тихо, и сонно, и скучно прибрано.
Такая вот, оказывается, была у них зима: без снега, с сухими тротуарами, со все еще, казалось, цветущими возле домов кустами, лишь слегка обожженными чернью заморозков.
Впрочем, он не ошибался насчет весны, она здесь уже, похоже, начиналась: под водостоками жирно посвечивали нехотя схваченные ночным морозцем слабые ледяные наплывы, из под которых уже и сейчас тихо сочилась черная вода.
Ставни в домах были закрыты, там было тепло, там было тихо, там люди спали.
Он представил, как в одном из таких же домов спит сейчас и Надя — совсем не ведая о его приезде — спит себе, тихие смотрит сны, а утром он постучится в ее дверь… Ему сразу же сделалось и весело и нежно.
Вот когда оно начиналось — то, что случилось между ним и Надей.
…Он шел по городу бережным ожидающим шагом — будто боялся взболтнуть в себе то ласковое, веселое, тихое и светлое, что радостно принялось молчать в нем, едва он подумал о ней.
Летом это был, наверное, очень зеленый город. Его улочкой он шел, как просекой, и голые ветки неведомых ему южных древес мелким решетом переплетались над его головой, на фоне уже явственно светлеющего неба.
У него было отчетливое ощущение, что кто-то пристально очень оценивающе и сосредоточенно следит за тем, как он идет.
Взгляд был сильно устремлен на него откуда-то слева, и он даже несколько раз приостанавливался, внимательно оглядывая все в той стороне, но там ничего, кроме все тех же сплошных заборов, кроме домишек с глухо затворенными ставнями, голых деревьев, не было.
И только когда просторный, весь понизу в густом молоке сумрачного тумана бульвар пересекся вдруг с улочкой, по которой он шествовал, и только когда он, встав на перекрестьи, еще раз глянул налево, — только тогда он понял, что это было.
Это были горы.
Это была Гора, которая взгромождалась совсем, казалось, вплотную к городу и над ним.
Странное дело, она, Гора эта, совсем не угнетала город чрезмерной своей огромностью, напротив — она словно бы покровительствовала ему, словно бы заслоняла, оберегала от каких-то напастей.
Читать дальше