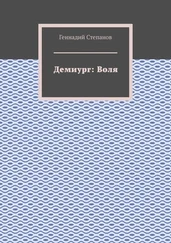Наконец, увидел.
…Он сидел в электричке, через проход от меня, в купе наискосок.
Мне сразу понравилось, как он читал: с серьезной внимательностью и той уважительностью к чужому труду, которые и в нем самом изобличали человека мастерового, без суетливой похвальбы в себе и в своем ремесле уверенного, уже давно, спокойно и без мук тщеславия свое место в мире и свое назначение в мире определившего.
Было ему лет тридцать пять. Может, чуть поменьше.
В синтетической какой-то куртейке одет был, в сереньких невидных, тщательно однако отутюженных брюках. Он не из богатеньких был, точно.
Лицо его было лицом обыденной интеллигентности человека (но не умствующего интеллигента) и слегка как бы помято какой-то давно копящейся усталостью, может быть, привычным уже недосыпанием, и я почему-то подумал, что он наверняка много работает, прихватывая еще и какие-то сверхурочные, дабы семейство (я тут же вообразил: жена, дочка (сын), еще и теща-пенсионерка) не испытывало лишней нужды.
Я так думал, что это ИТР был, не просто работяга — по крайней мере, не станочник — хотя руки у него были хорошие: крупные, ухватистые, к тяжкому труду тоже приспособленные.
Читая, он снял кепку и положил рядом — обнаружились довольно заметные залысины на лбу и темные, влажно свалявшиеся под кепкой негустые волосы.
Он был обычный. И мне было почему-то ужасно приятно, что он именно обычный.
Я смотрел, как он читает, и мне чудилось, что по его лицу словно бы тени проходят: то хмурь, то отсвет…
Вдруг он улыбнулся — да такой вдруг славной, совсем детской улыбкой! — а потом не удержался и тихонько засмеялся. Снова обратился к тексту, но, видимо, попав на ту же строку, рассмеялся погромче, тут же застеснявшись этого и отвернувшись поэтому к окну, но продолжая улыбаться.
Он с удовольствием претерпевал в себе этот смех, а потом посмотрел вокруг весело и добро, и хорошо. Ему, я увидел это, вот именно в эту минуту — легче жить…
Он еще помедлил немного, искоса поглядывая на журнал в руке и о чем-то не очень пристально размышляя, потом, додумав, снова — явно с удовольствием ожидания — принялся за чтение, обозначив при этом почти неуловимое ныряющее движение головой.
Он мне очень понравился, мой читатель. Он очень хорошо читал. Я уже совсем не боялся, что хорошо написанные строчки пройдут по касательной его внимания, обернутся словесным пшиком, слепым типографским пятном.
Судя по тому, где был открыт журнал, он был еще где-то в первой трети повести, и мне великодушно-радостно было за него: его ожидали еще очень многие хорошие куски, по-настоящему хорошие, мне ли было об этом не знать?
…Он оторвался от чтения, глянул в окно и вдруг, изобразив на лице веселый ужас, вскочил, одной рукой напяливая кепку, а другой запихивая в сумку журнал — электричка уже останавливалась.
Мигом собрался и бросился к выходу, скользнув напоследок и по моему лицу слегка сконфуженным и все еще хранящим веселие взглядом.
Милый человек! Он чуть не проехал свою остановку, зачитавшись моей повестушкой! Я сделался от этого почти счастлив, почти безмятежен, почти горд.
Мне кажется, именно тогда, когда я глядел на первого своего читателя, во мне начало потихоньку брезжить понимание того, зачем, собственно, нужна литература в мире.
Чтобы вот ему, читателю, легче становилось в мире. Чтобы с каждой твоей строчкой, каждой книжкой — становилось в мире глотком кислорода больше. Ты обязан в меру своих сил давать ему силу жить.
Странно устроено: сначала начинаешь писать, повинуясь неведомо чьей, подозреваю, Высшей Воле, и только потом ахаешь, добредя до понимания, насколько все это — всерьез — Литература. Не орудие, не оружие, а спасательный круг, который бросаешь в трясину, чтоб барахтающийся там человек хоть сколько-то еще продержался на плаву.
И сразу стало мучительно трудно писать.
До этого было просто и ладно: есть Они, которые не допускают тебя до читателя, и есть Ты, который писаниями своими к нему, читателю, стремишься.
Начался новый выворот испытаний: остался Ты и остался Он, читатель. Лицом к лицу. И сразу мучительно трудно стало писать.
Впрочем, шла ведь осень, и могло показаться, что все это — просто из-за осени, из-за прощальной отчаянной ее красы, из-за тоски горько пустеющих садов, черно черствеющей ботвы в огородах, из-за траура мокро и голо чернеющих веток, из-за холодной неприязни в небесах, которая обращена, казалось, именно к нам, людям, не бросившим эту землю в непогоду.
Читать дальше