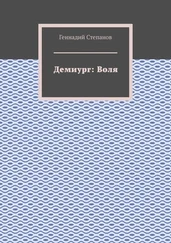Бывало, что и днем Закидуха удостаивал санаторий своим посещением. Во-первых, был там у него, как в старину говорили, «предмет» — в смысле побаловаться насчет продолжения рода. Ну, а во-вторых, всегда было любопытно при свете дня поглазеть, какой именно новый дефицит и куда именно собираются заложить на погребение смуглоликие наши братья по нерушимому Союзу.
И вот в одно из таких дневных посещений и рассказала Закидухе подруга, что приезжала пару дней назад министерская комиссия, и самый главный комиссионер высказал недовольство, в том разрезе, что здоровью больных безусловно вредит такое чересчур уж количество животных на заднем крыльце столовой.
Закидуха бросился разыскивать Братишку, попытался зазвать его с собой. Но тот, слишком занятый в это время наведением дисциплины в вверенном ему гарнизоне, к призывам остался глух. Только хвостом издали повилял.
— Все! — сказал мне Роберт Иванович. — Эти ребята на хозрасчете. Они не то, что собак — всех комаров по одиночке передушат, только бы заплатили. А им — заплатили.
Стало ясно, что начался отсчет последних братишкиных дней на этой земле.
Однажды, уже под вечер, я сидел на корточках у крыльца и в ожидании, когда позовут ужинать, распрямлял на камушке гвозди.
Вдруг краем глаза я заметил движение у калитки. Поднял взгляд. Какой-то серый незнакомый мне пес очень неловко и как-то уж очень бестолково лез в подкалитную дыру. Я смотрел… Он наконец пролез, но почему-то там же и улегся, не сделав в глубину сада ни единого шага.
Я поднялся и пошел к нему, и только шагов с четырех увидел, что это — Братишка.
Господи боже мой! До чего он был на себя не похож! Он был — серый. Душно-графитного цвета. Было впечатление, что он не день и не два валялся в какой-то угольной яме. Пасть его была страдальчески ощерена. На меня он даже не глянул. Припав головой к земле, упорно и тупо смотрел в заросли крапивы.
— Что с тобой, друг дорогой? Где ж ты так извалялся?
Он сделал движение глазами, но на меня по-прежнему не взглянул.
Я присел возле. Непонимающе и почему-то боязливо погладил. И тут я что-то постороннее почувствовал ладонью — петля !
Горло Братишки было намертво захлестнуто тонкой бечевочной, страшно глубоко врезавшейся удавкой.
Я попробовал, с трудом подсунувшись пальцами, порвать ее. Куда там! Бечева была, как стальная проволока.
Я только Братишке сделал больно: он дернулся и захрипел. Бегом я бросился в дом, принес ножницы.
Петля врезалась в горло так жестоко-глубоко, что пришлось выстригать шерсть, чтобы подобраться лезвием под бечевку. Ножницы щелкнули, и Братишка торопливо, спасено коротко и сипло — задышал!
— Ах ты Господи… — только и мог повторять я, глядя на Братишку.
Я попробовал руками бечеву. Она была тонка (походила, скорее, на очень крупную леску) — и щедро навощена варом. Я чуть ладони себе не порезал, но не сумел порвать.
Вот так Братишка.
Братишка лег наконец нормально. Повернул ко мне голову, лизнул руку, виновато поглядел в глаза.
— Пойдем? Попить хоть дам.
Он прошел со мной половину дорожки и снова улегся.
Жажда его мучила. К плошке с водой он сунулся оживленно и жадно. И тут же мучительно захрипел — петля наверняка истерзала ему глотку.
Он все же кое-как напился — разбрызгивая воду, то и дело ударяясь в кашель, делая, поднимая от плошки морду, такие глотки, будто проглатывал жесткий угловатый кусок.
Напился, а потом — вдруг повернулся и, даже не взглянув на меня, побежал назад к калитке.
— Братишка!!
Он бежал нестойкой, измученной, плохоуверенной побежкой и — не оглядывался!
Я ждал, печально замерев: куда повернет?
Если вправо, вверх по улице, то — к Закидухе, домой. Если влево…
Он повернул влево. Там был лес, а за лесом — санаторий.
Там оставалась его стая.
Больше я никогда не видел Братишку.
Братишку больше я не видел никогда.
Никогда.
А через неделю вышел журнал, в котором был напечатан «Джек, Братишка и другие».
Я еще не мог знать, что никогда не увижу больше Братишку, и с нетерпением ждал его прихода — чтобы испытать наконец хоть немного от той горделивости, появления которой я поджидал в себе с напечатанием этой первой моей, долго и мучительно жданной повести.
Кроме странной — приятной, впрочем, — грусти и внезапно образовавшейся опустошенности в душе, я, честно говоря, ничего не испытывал.
Слишком долго, и трудно, и нудно все это тянулось.
Я ждал Братишку, чтобы хоть за него порадоваться — чтобы все новыми глазами увидели, какой это замечательный пес — не просто добродушный симпатяга-дворняга, который всегда не прочь подхарчиться за счет дачников, а пес — личность, пес — умница, философ, гордец.
Читать дальше