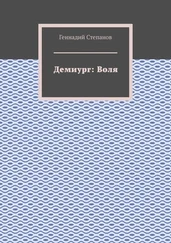Я украдкой глянул ему в лицо. С непонятно-остро поразившим меня чувством вины и откровенным, почти что грубым чувством зависти я увидел в его серьезных, немигающих и по-взрослому спокойных глазах, какая прекрасная, какая загадочная, какая заманчивая, какая драгоценная Жизнь открывается ему, едва лишь начинающему жить.
Я боялся пошевелиться.
Я хотел, чтобы этот миг в его жизни все длился и длился — длился без конца.
… Я вспоминаю, как осенью — уже непоправимо далеко зашедшей, растерянной жалкой осенью — уже в пору покорства и отчаяния, и едкого, ничем не оборимого чувства одиночества в мире — я стоял среди мокрого, голого, нищего сада и, до боли в затылке запрокинув голову, смотрел в небо — впервые в жизни глядя на улетающих журавлей.
Это не высказать словом, как они летели — как прекрасно и грустно, как переливчато плыл в хмуреньких, грязновато-оловянных небесах этот слегка растрепанный, неторопливый, церемониально печальный, небрежным углом построенный клин… Какая прощальная, какая добрая печаль была в этих неспешных движениях крыл… какой пронзительно сладкой тоской сразу же наполнилось, ожил о небо, едва возник в небе этот зыбкий, зябкотрепещущий (от несказанного, чудилось, сострадания к тем, кого они оставляют) строй этих очень крупных, даже на отдалении, птиц.
Они, пролетая, прощались. Это было явно.
Они не стремились улетать, но улетали, так было заведено, и потому-то — столь грустен и безысходен и даже, казалось, замедлен был этот полет.
Но — странное дело — было в их лете и что-то такое, что рождало не одну лишь печаль, но и надежду: на их непременное возвращение, они не обманут, а стало быть, и на возвращение лета, на возвращение той животворящей жизни, которая с каждым днем все иссякала и иссякала в безнадежно осенней этой стране.
Я смотрел не один. Мы смотрели все вместе. Мы смотрели растроганно, строго и тихо.
— Помахай им… — шепотом сказала жена Кольке и коротенько замахала крохотной его ручонкой, упрятанной в комбинезон.
Они заметили нас!
Мы вдруг — мы оказались как бы под светлым дождиком — как бы осыпанными странными, стекловато чуть позванивающими, чуть гортанно и чуть скорбно звучащими звуками. Мы услышали нежное, мы услышали опечаленное. Простите, прощайте, ждите, дождитесь, простите, прощайте!
— Это были журавли ведь? — спросила жена, и я увидел слезы в ее глазах.
— Наверное…
А Колька все смотрел и смотрел в небо, уже опустевшее.
Осенью и зимой жизнью мы начинали жить поневоле замкнутой.
Тем большее удовольствие нам доставляли и тем большую праздничность обретали редкие для нас выезды в свет: в магазин, к примеру, дабы постоять часок-другой за очередным каким-нибудь дефицитом, в поселковую поликлинику, например, дабы продемонстрировать Николая врачу, сделать необходимые обмеры его и завесы, драгоценные какие-нибудь анализы сдать, прививки сделать…
Мне ужасно нравилась эта поселковая поликлиника.
Не знаю, как они там взрослых лечили (наверное, хорошо лечили: никогда там не видел ни толчеи у кабинетов, ни очередей в регистратуру). Всегда там было пустовато. Свежевымытые, сияли дощатые, крашенные охрой полы… И детский врач там была замечательная — Калерия Ивановна, как сейчас помню — огненно-рыжая старуха, с грубоватыми сноровистыми ухватками врачихи, лет сорок, если не больше, отдавшей возне с детишками.
Она всю жизнь была сельский врач, а это значит — обладала неиссякаемыми запасами терпения, спокойствия и доброжелательства, просто проистекавшими, несомненно, от знания своей насущной необходимости людям.
Ходить по вызовам из одного конца поселка в другой — под дождем, по грязи, под снегом, по сугробам — она, явно, ни за какой-такой гражданский подвиг не почитала. От всегдашнего отсутствия то тех, то других нужных лекарств в аптеках в отчаяние никогда не впадала (вообще, по-моему, химию лекарственную недолюбливала) — с удовольствием и убеждением прописывала снадобья простые, старинные, испытанные.
Кольку, как нам казалось, она любила. (Не удивлюсь, впрочем, если все другие родители той поликлиники тех времен то же самое скажут об отношении Калерии Ивановны к их чадам.)
Штучное было к пациенту отношение в той поликлинике — вот что прельщало необыкновенно. Прямо-таки очаровывало, как просто, добротно, легко и с видимым удовольствием исполняли и доктора, и медсестры свое предназначение тут.
(В городе, мы уже привыкли, врач встречает вас с плохо скрываемым раздражением: «Еще один!!» Он смотрит на вас белесыми от неприязни глазами как на наконец-то обнаруженного им виновника и невысокой своей зарплаты, и плохого жилья, и адской своей загруженности. Он осматривает и выслушивает вас, ничуть даже не стараясь скрыть абсолютного своего пренебрежения к вашим хворобам и болям. Для него вы — досаду доставляющее, время отнимающее Ничто. В нем даже и врачебный соревновательный азарт начисто уже выветрился (если, конечно, был когда-то): обнаружив в больном болезнь, он не воспламеняется страстью померяться с нею силами и во что бы то ни стало одолеть ее — поскольку Врач и Болезнь, встретившиеся лицом к лицу, не имеют права разойтись мирно, это испокон веку заведено… Нынешний же лепила с готовностью, чуть ли не с облегчением делает шаг в сторону, обнаружив более-менее сложный недуг в больном, он уступает Болезни дорогу и ни малейших при этом угрызений совести не испытывает.)
Читать дальше