Алла работает в библиотеке вместо Оксаны, которая ушла в дородовой отпуск. На днях зашел к ней. Она сразу накинулась на меня:
— Давненько вас поджидаю.
Была она в синем, скромном халатике, но в лице пробивалось праздничное оживление. Бросилась в глаза новая выставка под красивым заголовком «Что надо знать животноводу».
— Просмотрела ваш формуляр. Маловато читаете, товарищ доктор. Беллетристики совсем не берете. Замыкаетесь в узкий практицизм.
— Некогда, Алла.
На секунду скрылась за стеллажами.
— Тут я специально для вас приготовила.
Шлепнула о стол объемистую стопку книг.
— Смотрите, Игорь Неверли «Парень из Сальских степей». Не читали? Ой, как стыдно! Вам, как врачу, обязательно надо прочесть. Панова «Спутники».
— Читал.
Перебрал книги.
— И «Ивана Ивановича» читал, и «Открытую книгу».
— А Джигурды «Теплоход „Кахетия“»?
— Нет.
— Возьмите. Еще Кронина «Путь Шеннона», «Цитадель».
— Алла, не все сразу, — взмолился я.
— Я отложу. Хорошо? Это все книги о врачах.
Настроение у меня до этого было дрянное. Забота Аллы меня развеселила. Смешная она все-таки. Ей кажется, что люди только и должны читать, читать и читать. Из вежливости взял «Путь Шеннона».
Нет, читать я сейчас не могу. Что бы ни делал я, все время чувствую свое одиночество. Бессонными ночами думаю все об одном и том же. Было счастье. Я не сберег его. Нужно было открыть Наде все, все о Вере, ничего не утаивая. Или, вернее, я ошибся не здесь, а еще тогда, давно, на острове? Не знаю, но теперь все собралось в одну темную тучу.
Невыносимы зимние, бесконечно длинные ночи. Пустынные, беззвучные ночи, когда стоит только закрыть глаза и рядом неотвратимо возникает Надя, так реально, что слышишь нежный шепот ее влажных губ.
В одну из таких ночей раскрыл «Шеннона». Не ждал я, что он так захватит меня. Далекая Англия, далекое умершее время. Казалось бы, все чужое, но неожиданно прочел залпом в один вечер. Молодой ученый, его скитания в поисках пристанища для научной работы: университет, Далнейрская больница, психолечебница, и везде гонения со стороны чиновников от медицины. Из ночного мрака на меня взглянули ласковые глаза милой несчастной Джин Лоу, связанной путами пуританских взглядов. Шеннон, влюбленный в свою науку, снедаемый молодым честолюбием, близкий и далекий.
Книга растолкала, растормошила во мне новые мысли. Неужели права Вера? Неужели нельзя без честолюбия? А есть ли у меня оно? Нет, у меня не честолюбие, а что-то другое, чего нельзя, может быть, определить одним словом, — страх умереть, не истратив себя без остатка, не достигнув всего, на что способен, исчезнуть, как осенний лист. Вот это чувство было сильно во мне с самого детства, еще когда я, лежа на острове и слушая шум тальника под ветром, мечтал. А честолюбие? Нет его…
И еще одна мысль: Шеннон — одинокий скиталец — ни на мгновение не оставлял свою науку. А я? Почему же я бездействую? Откуда это малодушие? Никаких оправданий. Трудно, времени нет, но все надо преодолеть. Я не дрянь и не тряпка, чтоб ссылаться на обстоятельства. И тут я задал себе вопрос: «Хочу ли я?» Ответил: «Да, хочу». Больше всего остального в жизни — служить науке. Дать ей хоть зернышко, но мое.
Все чаще почему-то стала попадаться на глаза Светлана. Мне даже думается, что она ищет встреч. Однажды она попросила меня:
— Зайдите ко мне. У меня дело к вам есть.
— Когда?
— Да хоть сейчас. Вы не заняты?
Маленькая квартирка выглядела теперь просторнее оттого, что вынесли кровать Бориса Михайловича. Стол выдвинут на середину комнаты. Светлана торопливо прикрыла его скатертью.
Присев на корточки перед плитой и кидая тонкие лучиночки язычкам пламени, она сообщила мне:
— Дом продаю. Покупайте.
— Пока не думаю.
— Не хочу здесь жить. Старые стены давят, и он все еще здесь. Побелила я, вымыла все, проветрила, а все мне чудится, что тленом пахнет.
На колени мне вспрыгнула, стала тереться мордой о грудь и мурлыкать тигристая красивая кошка с короткими, отмороженными ушами.
Светлана, захлопнув дверцу печи, отошла к двери, оперлась о косяк. Голос ее зазвучал вкрадчиво:
— У вас бывает такое: вдруг замечаешь, что жизнь уходит, тает, как снег?
— Нет, не бывает.
— Надоела мне деревня. Хочу жить в большом городе. Я ведь еще не старая. Хотите вина?
Я отказался.
— Напрасно.
Она достала из буфета бутылку портвейна, наполнила высокую с просинью рюмку, выпила.
— За ваше здоровье. — И продолжала: — Жизни я еще не видела. После войны маму схоронила, очутилась в детском доме, в Тогуре. Там и десять классов кончила. Хорошо там было. Книги полюбила, зачитывалась. В комсомол вступила. Затем приехала сюда, работать счетоводом в сельпо. Борис Михайлович стал уговаривать замуж. Работа мне не нравилась — тоска смертная. Глупая я еще тогда была, никто мне не нравился, и я посчитала: когда-нибудь замуж все равно надо. Согласилась, с работы ушла. Поживу, думаю, в свое удовольствие. Он сперва, правда, был ласковый, тихий. Такой ласковый, что даже до тошноты. Потом посуровел. Не умела я такой женой стать, какой ему надо. Противно рассказывать даже: обед свари, свинью накорми, за коровой присмотри, сырые валенки его не забудь на печь поставить, да сама к ночи подушись духами «Кармен», чтобы волосы навозом не припахивали. Читать не позволял. Сяду, бывало, за книгу, а он: «Ну, опять в книгу уткнулась. Неужели дела нет?» Из дома никуда не пускал. Девчата в клуб идут, а я сижу дома, плачу. По-своему и заботился обо мне, да радости от этой заботы мне не было: платья мне, сласти — без отказа. Вина захочу — пожалуйста. К себе приручал, да не приручил. Боялась заразиться. Он обнимет, а я отворачиваюсь, чтоб в лицо не дышал.
Читать дальше





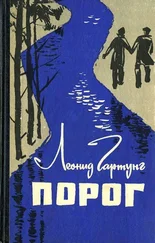





![Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-thumb.webp)
