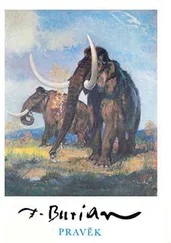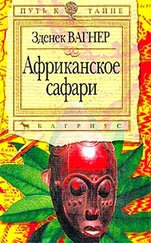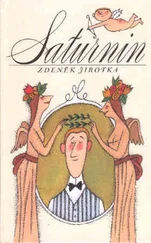Четыреста молодых людей со всех концов Европы, более похожие на беженцев в лагерях, нежели на солдат. Гонзик не может представить себе, что он и эти остальные ребята через несколько месяцев будут стрелять в людей с желтой кожей и раскосыми глазами. Пятьдесят процентов легионеров, по слухам, не возвращается. Гонзик, конечно, не будет стрелять, разве только, как говорят чехи, пану богу в окошко; какой-нибудь вьетнамец застрелит его, Гонзика, и не будет даже знать, что убил человека, который не хотел причинять ему зла. Гонзик положил голову на ладонь, а локтем уперся в барьер.
— Где ты очутился? — обратился он сам к себе. — Куда занесла тебя дурацкая мальчишеская страсть к романтике, легкомыслие, излишняя доверчивость и дурной пример плохого приятеля Ярды?
Он лег навзничь на сенник. Высоко над ним холодно мерцали голубовато-зеленые звезды. Каменная терраса все еще выдыхала жар минувшего дня, но в воздухе — облегчающая солоноватая влажность. На соседнем тюфяке, лицом вниз, с неестественно подогнутой ногой, тоненько посвистывал во сне Билл. Его грязная рука судорожно сжимает висящий на шее кожаный мешочек с пятью тысячами франков.
* * *
Утренняя свежесть разбудила Гонзика. Несколько парней уже стояли у барьера. Они громко обменивались радостными впечатлениями и взволнованно тормошили спящих легионеров: как может кто-то валяться под одеялом, когда рядом море.
Гонзик вскочил и побежал к барьеру. Море! Ошеломляющая, непостижимая высота горизонта. Почему эта гора воды не обрушится вниз, сюда, на крепость, и не затопит все на своем пути? У Гонзика дрогнул подбородок; он тщетно пытался скрыть слезы. Море! Лазурнее, чем цветы цикория на межах родного края, стократ синее, чем майское небо над Стеклым прудом.
Залитый солнцем огромный белый пароход шел к порту. За ним над самой водой — длинный шлейф черного дыма и искрящаяся лента рассеченной воды, все более расплывающаяся в треугольник; стеклянный купол маяка сияет в лучах раннего солнца. Дымок другого парохода был виден на самом горизонте — пароход уже скрылся из виду, взяв курс к незнакомым берегам. Недалеко отсюда отделенные проливом два скалистых острова; на одном какая-то древняя башня. Вчера ночью Гонзик пытался вообразить себя графом Монте-Кристо, а теперь и не знал, что глядит на самый настоящий Шато д’Иф, никто около него и не подозревал этого, вероятно, даже и скучающий у входа на террасу караульный в белой шапке, — этот вряд ли вообще знал имя Александра Дюма.
Сотни молодых людей взволнованно толкутся у каменного барьера; соленый запах манящих далей, первое ошеломляющее впечатление от новой, доселе неведомой природы.
Но сквозь шум восхищения прорвалась тревожная мысль, внезапная, жестокая, как злой кулак, разбивающий прозрачное стекло. «Что тебя ждет?» От этой мысли у Гонзика побежали по коже мурашки. Красота заполнила твое сердце, море — это же безграничная свобода. А сам ты связан, как скотина перед убоем, и перед тобой лишь одна неизвестная, угнетающая душу неопределенность. И где-то там, за этим голубым горизонтом, гибель…
Свистки прорезали застывшую тишину.
— Становись!
Все изменилось вокруг, как по мановению палочки злого волшебника. Люди забегали, затопали по лестницам куда-то вниз, послышались крики, брань, незнакомые резкие слова команды. Парни, путаясь, метались по двору: солдаты в гимнастерках цвета хаки, в шароварах, застегнутых у щиколоток, помогали им тычками в спину, устанавливая шеренги.
— Garde á vous! [156] Смирно! (франц.) .
— раздалась команда.
Легионеры не поняли слов, но догадались по металлическому тону голоса и замерли на месте как кто стоял. Унтер-офицер с трудом расставил их в колонну по трое, а какой-то офицер в черной шапке с красным верхом, с четырьмя золотыми треугольниками на рукавах обратился к ним с кратким словом. Легионеры не поняли его французской речи. Офицер достал бумажку и, страшно искажая, прочитал несколько имен. Последним он назвал Гонзика. Два вооруженных солдата увели группку тех, кто до сих пор еще не подписал обязательства. Гонзик не успел как следует оглядеться, как уже снова очутился в тюремной камере под замком. Он горестно присел на нары, на минутку закрыл лицо ладонями, в душе его еще не поблек чарующий образ бескрайной свободы моря, перед его глазами до сих пор мелькали белые гребни волн и чайки вычерчивали свои грациозные кривые в туманной утренней дали. В его душу опять проникли слезы и страх. Не появится ли через мгновение другой поляк, другой Царнке? Сколько он вытерпит, прежде чем его убьют?
Читать дальше
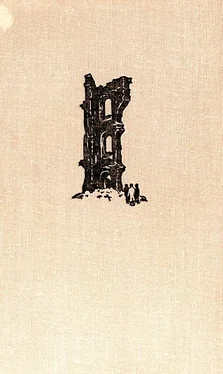

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/12205/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il-thumb.webp)