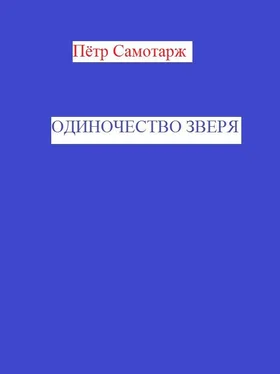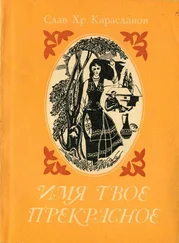— Ладно, Игорь, хватит заговаривать мне зубы — твоя очередь высказываться о литературе.
Саранцев замолчал и внутренне всё больше раздражался. Он не хотел говорить правду и собирался соврать половчее, но фантазия ему не вовремя отказала. Ему нравился Грэм Грин, особенно «Наш человек в Гаване» и «Тихий американец», он любил «производственные» романы Артура Хейли, особенно «На высотах твоих», и рассказы О’Генри, особенно повесть «Короли и капуста», а из отечественных авторов предпочитал Аксёнова. «Затоваренную бочкотару» он запомнил с подростковых лет, когда прочёл её в «Юности», хотя не имел тогда ни малейшего представления об авторе и даже фамилию его по детской привычке не запомнил. И уже намного позже, во время перестройки, после возвращения опального эмигранта в литературный контекст, с изумлением случайно узнал о его авторстве. Книги всплывали в сознании Игоря Петровича одна за другой, но не доставляли ему своим появлением радости — он хотел себе более солидного чтения. Грин вообще зачастую мешал ему работать — президент при каждом упоминании внешней разведки в своём служебном кабинете невольно вспоминал «Нашего человека» и на некоторое время терял серьёзность восприятия.
— Назвать книги, которые определили мою жизнь, я не могу.
— Не определили, а оказали влияние, — строго подняла указательный палец Елена Николаевна. — Я не настолько радикальный филолог, как ты меня представляешь. Можем начать с самого начала, как поступила и Аня: какие книги ты ценишь больше других?
— Достоевского, — неожиданно для самого себя сказал Саранцев. — «Братья Карамазовы».
Игорь Петрович прочёл роман давно, но запомнил его лучше прочих. Вспомнил снова во время разговора с Еленой Николаевной в машине, и теперь название само пришло на язык. Всё карамазовское семейство представилось ему психологическим портретом автора, раздираемого страстями Алёши и Дмитрия. Подобно Ивану, рассуждает писатель о невообразимом и, кто знает, водрузил ли он своего колобродного отца, то ли убитого мужиками, то ли мирно скончавшегося, на вершину этой пирамиды несовершенства, или сам себя видел таким же, ничуть не лучше его? Самое поразительное — вот так взял и со всей откровенностью вывернул себя на обозрение читательской публике. Странный всё же народ — писатели.
— Достоевский? — искренне удивилась учительница. — Ты уверен?
Наверное, тоже держала в памяти недавний разговор.
— Уверен, — обиделся президент. — Почему вы удивляетесь?
— Мне казалось, политику трудно с Достоевским.
— Почему?
— Ты же сам, кажется, мне сказал.
— Ничего подобного. Я сказал только, что Достоевский не мог руководить. А политикам он очень даже полезен — способствует смирению.
— Он говорит не только о смирении. И даже не столько. Скорее, о бесценности каждой отдельной человеческой жизни.
— Вы о том, что политика — грязное дело?
— Не так прямо, но, в общем, примерно да.
Игорь Петрович обиделся не столько за себя, сколько за Достоевского. Классик его не перепахал и не перевернул душу, но действительно заставил думать. Он не перечитал ни одной вещи сурового транжиры, игрока и ходока Фёдора Михайловича, однажды им прочитанной — останавливался, как перед глухой кирпичной стеной и боялся лезть через неё, словно ожидал встретить злобных цепных псов по ту сторону. Другое дело Толстой, смешной в его наивном морализаторстве. Отрёкся от авторских прав и призывал к аскезе, завещание писал на пеньке посреди леса, но с помощью двоих человек, один из которых держал перед ним текст черновика, а другой принёс фанерку для применения её в качестве конторки. Сколько манерности и фальшивой картинности, достойных мелкого графомана.
— Очевидно, порядочные люди не могут заниматься грязным делом, разве нет?
— Думаю, существуют определённые границы приемлемого, — не уступала Елена Николаевна. — Ты, например, их не переходишь. По моему мнению.
— То есть, я всё же поступал недостойно, но для моего грязного занятия допустимо?
— Игорь, не волнуйся так. Я не знаю ничего о каких-либо твоих недостойных поступках.
— Но думаете, что они всё же были?
— Я не считаю тебя бесчестным человеком, но в моём представлении политика предполагает систему компромиссов и неофициальных договорённостей, скрываемых официозной риторикой. Категоричные моралисты всегда остаются на обочине исторического процесса, но я и в жизни таких людей с трудом переношу. Всякий раз подозреваю причиной подобного рвения собственное бурное прошлое блюстителя. Кстати, меня и «Собор Парижской Богоматери» в своё время несколько озадачил: всё читала и ждала сведений о грехах молодости Фролло. Даже до самого конца подозревала в нём отца Квазимодо.
Читать дальше