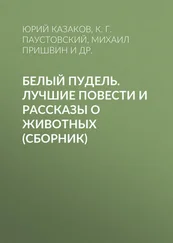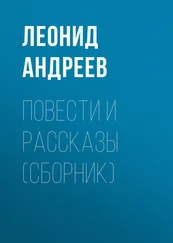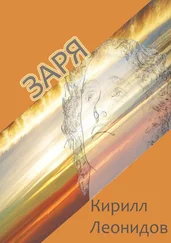А Юрку я просил пояснить свои слова. Если я оказался негодным к строевой службе, то это вовсе не значит, что можно мне этим колоть глаза. Может, и лишнее кое-что написал, но тогда было такое состояние, других слов не нашлось.
И еще третье письмо стал писать — много хотелось сказать Шурочке, но не написал. Вернее, написал, а потом все порвал. Если б поговорить с глазу на глаз, а писать не получается — то слишком нежно, то чересчур холодно. В общем — чушь…
— Алеша, — гнусавил старик, — будь настолько добрый, проводи меня до магазина…
Я брал Захара Захаровича под руку, и мы шли за хлебом. Ему, слепому, хлеб отпускали вне очереди, а заодно и мне. И вообще у нас со стариком сложились уважительные отношения, и часто по нашей фанерной перегородке шуршали руки слепого, отыскивающие дверь.
— Алеша, у тебя не найдется щепотка табаку? Аграфена, язви ее, не покупает. Говорит, ни к чему баловство.
Но потом отношения со стариком начали портиться: и за хлебом перестали ходить, и за табаком он приходил реже. И все из-за Аграфены Ивановны. Она беспрерывно что-нибудь брала у нас взаймы.
— Мария Александровна, — обращалась она к тете. — Дайте мне до завтра морковки.
Другой раз речь шла о соли или крупе. Но это только так говорилось — до завтра. Не была случая, чтобы она вернула, что брала. Аграфена Ивановна делала вид, что забыла о такой мелочи. Тетя Маша, стараясь говорить спокойным тоном, напоминала о долге. Аграфена Ивановна притворно сокрушалась:
— Вот ты грех какой. Совсем из головы вон. Завтра же куплю и отдам.
После этого могла пройти неделя, а старуха и не думала возвращать взятого. Я бы давно отступился, но тетя была настойчива и снова неестественно спокойным голосом напоминала. Аграфена Ивановна сердилась:
— Подумаешь, морковка задрипанная. Две копейки цена. Я б из-за нее и разговор не заводила. А об том не думаете, что живете у нас бесплатно? Думаете, мало с вами мороки?
— Это какая такая морока?
— Угол фанерой отгородили. Какой теперь у комнаты вид? Бардак натуральный, а не приличное помещение.
С тетей разговаривали мы мало. Она работала на полторы ставки и с утра до ночи пропадала в больнице, а я занимался тем, что ходил и искал работу. Бездельничать было уже невмоготу. Вместе с тем я замечал, что тетя недовольна мною. Но дело было даже не в этом. То есть не в ней, а во мне самом. Садясь за стол и протягивая руку за куском, я каждый раз вспоминал, что он заработан не мной.
Вот почему я пошел на Степановку. Теперь это часть города, внизу за Томском-I. А в то время это был совхоз на берегу Ушайки, отделенный от города двумя километрами ягодников и полей. Туда я поступил плотником, хотя до того топора в руках не держал.
Нас поставили строить новое овощехранилище, за ручьем, на холме возле молодого березняка. Теперь, через много лет, я вспоминаю то время, как самое чудесное. Более того, пожалуй, именно здесь, а не в городе, мне впервые полюбилась Сибирь.
Вокруг картофельных полей стоял желтый березняк. Лист еще держался, но все ждало первого ветра, чтобы начался листопад. Стояли ясные, теплые дни с легкими заморозками по утрам. И над всей этой земной красотой простиралось бледно-голубое небо без единого облачка. Тогда я впервые заметил, что небо здесь, в Сибири, не такое, как на родине, — трудно даже передать словами, в чем разница. Может быть, здесь небо спокойнее, менее красочное, но более высокое. Да, это так — главное, более высокое, более удаленное от человека.
Работа досталась нетрудная — я очищал от коры толстые осиновые жерди для крыши овощехранилища. Мне дали изогнутый острый струг с двумя рукоятками. Сидя верхом на жерди, я срезал мягкую кору, и в лицо мне брызгал горький осиновый сок. И, что очень немаловажно, нас три раза в день кормили. Наливали по полной миске густого картофельного супа, подправленного пережаренным луком.
Кругом, куда ни глянь, простирались картофельные поля. Никто не запрещал печь картошку в золе костра, варить в котелке, жарить на углях тонкими пластиками. Короче, можно было делать с ней что угодно, только не уносить домой.
Вокруг строящегося овощехранилища дымились костры. Дым в тихую погоду подымался прямо вверх розовыми столбами.
Кроме нас, плотников, около овощехранилища работали так называемые «процентщики» из городских. Они приходили сюда поодиночке и целыми семьями со своими кулями и ручными тележками. Многие боялись голодной зимы и старались, как могли, запастись картошкой. «Процентщики» выкапывали ее, подвозили или подносили к хранилищу, кладовщик взвешивал клубни, и они ссыпали их в закрома. Да, закрома уже были, а крышу не успели покрыть. Картошка лежала под открытым небом. На ночь ее прикрывали соломой. Одиночки уносили свои 10 % в куле, семейные увозили ее на тележке. Можно было получить заработанное и зимой. Таким выдавали квитанции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)

![Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-thumb.webp)