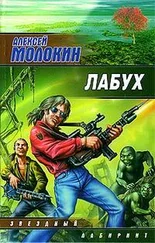Ростик слышал, как на прощание, ребром ладони так по кадыку врезав, что душа рванулась под горло и не проглотить ее было, меня предупредили, чтобы в дверь постучал и сам знаю к кому попросился, если не хочу, чтобы снова бить пришли. Потому как, придя, бить уже будут, если даже попрошусь. Вот Ростик и говорит: хватит с бабами разбираться, — и понятно, с кем мне разбираться, если не с бабами; Ростику жалко меня, а Адаму Захаровичу, который в сибирском лагере в партию вступил, не жалко:
«Отбили тебе почки, ошаурок! Где и за что донорские возьмешь?»
С Адамом Захаровичем договорить бы хотелось, втолковать ему наконец, что зря в конвойных войсках он жизнь прожил, но Иосиф Данилович, палатный доктор, не позволяет:
«Не тревожьте, Адам Захарович умер».
«А Зиночка?..» — почему–то не могу я вспомнить, жива ли, или уже кукла Зиночка, и собираюсь это у Крабича выяснить, а Крабичу не нужно, чтоб я выяснил, чтобы вспомнил:
«Спорим, что попросишься задницу вылизывать!»
За четверть века, за двадцать пять лет, которые мы вместе, Крабич вряд ли когда–либо про меня хорошо подумал, а тем более сказал — в чем же мы друзья?
«А ты бы не попросился?»
«И он бы по–про–сил–ся…» — одетый в форму брата–мильтона, как заведенный, механически долдонит и куклой кивается железный Феликс, в компании с которым Крабич на Грушевке водку пьет — и еще с президентом, а говорил, что будет пить с Хусейном и Арафатом. Президент думает, что я уже готов, счастлив вылизывать, штаны снимает и выставляется:
«На!»
«Кто э‑то?» — вопрошает железный Феликс, будто не знает, с кем пьет, а Крабич подделывается под него: «Пре–зи–дент», — и железный Феликс покачивается куклой вроде Ваньки–встаньки: «И он по–про–сит–ся…»
Голый брат–мильтон просит: «Я возьму штаны, если вам не нужно?..» — но президент ему фигу под нос: «Заслужи!..»
«А мы за бомбой! — пробив стену, выползают из–за карты бывшего Советского Союза Хусейн с Арафатом — и карта повисает на одном гвозде, повернувшись из проекции Гаусса в проекцию Менделеева. — Про–дай–те бомбу Рут–нян–ско-го…» — на раваностроне играет Хусейн, и поет Арафат.
В пролом собака уличная, вся в репейнике, впрыгивает, подлизывает президенту, который все еще стоит, жопу выставив, и думает, что это я подлизал, поэтому говорит: «Молодец, теперь проси у меня, чего хочешь!» — и я хочу попросить и не могу, а то вдруг про пистолет догадается, но и шанс нельзя упустить, чтобы до пистолета добраться:
«Прикажите, чтобы туалет напротив вашей резиденции не закрывали. Потому как, случается, приспичит, а негде…»
«Это все?» — теряется президент, и Крабич своего не упускает: «Это все, что у такого говнюка попросить можно».
«Что за А–зи–я?..» — бронзой грохочет железный Феликс, пробуя карту повесить так, как она висела, и вгоняет гвозди в пролом, в пустоту, на которой, согласно китайской философии, чуть ли не все в мире держится, но не карты же бывших держав — да еще таких огромных! Карта падает в пролом, ее втягивает в пустоту, в черную дыру, и Крабич прыг от дыры в сторону: «Я в Европу!» — а железный Феликс хвать его: «Ку–да?» — да ухватить как следует не успевает, Крабич вырывается, но тут на него нежданно, штаны выслуживая, набрасывается брат–мильтон — и они в обнимку катятся под голую задницу президента, которую тот вывеской прикрывает: «ПРОХОД ПО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ, ЗАПРЕЩЕН!» — и поднимает флаг над вывеской, и Эдик Малей запевает сразу: «Мы, белорусы…» — и хор случайных спутниц и спутников жизни подхватывает: «С братскою Русью…» — механически рты раскрывая, как куклы.
«Это ты всех скуклил!..» — истерично кричит на Крабича Стефа, неся на руках куклу-Зиночку, у которой ромашки в волосах, подаренные Аликом, и Зиночка выплетает из волос, бросает мне ромашку:
«Я сама скуклилась, быть живой не хотела у такого, и у вас такого не буду…»
Как желто пахнет ромашка, как бело…
«А какой я такой? Какой я такой, Зиночка?»
«Такой хитрый, — дуется Алик. Он на то, видно, обижается, что бросила мне Зиночка ромашку: на нее бы и обижались, почему на меня? — Вы собак боитесь, так вид сделали, будто нашли, где мне жить, а на самом деле — за собакой присматривать».
Я хитрый такой? Тогда почему я в камере, или в карцере, где клаустрофобия душит и где меня снова сейчас бить будут? Потому что это не Феликс железный бронзой гремит, а охранник ключами в замках — и за дверью два молодца проворные, те самые…
Зачем они бьют? Что из меня можно выбить?.. То, что им нужно, выбить можно только из Феликса, но из него не выбили, так бьют меня? Просто бьют, чтобы бить…
Читать дальше