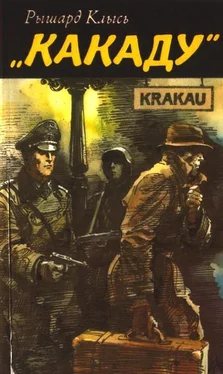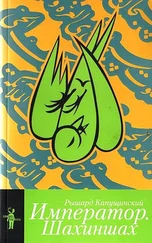Дальше он уже не мог ничего себе представить; вернулся мыслями к событиям минувшей ночи, но быстро убедился, что мало помнит: лишь какие-то отдельные обрывки событий, словно все происходило много месяцев тому назад и стало далеким, постепенно стирающимся из памяти сном.
Он сидел на плоском ящике неподалеку от танка, который стоял, развернувшись боком, почерневший и расплавившийся от огня, на распаханной взрывом земле, метрах в двух от ямы, где они нашли ночью прибежище, и, представив себе, что еще один рывок — и танк вдавил бы их обоих в землю, он мучительно содрогнулся. Взгляд его упал на тело свесившегося из башенного люка солдата — у того было страшно изуродованное лицо, красные, с ободранной кожей руки. Хольт перевел взгляд ниже и увидел гусеницы танка, в клочья разнесенные взрывом, свисающие по обеим сторонам шестерен, словно оторванные пустые рукава солдатской рубахи.
Он ждал, охваченный беспокойством и напряжением, тоскливо высматривал на горизонте гор силуэты людей, которые придут за ним и заберут его отсюда. И ему было все равно, куда его повезут, только бы не пришлось больше торчать в этом месте, среди жуткой, сонной тишины и молчания мертвых. На какой-то момент у него возникло странное ощущение, что все это ему уже откуда-то знакомо, все это он где-то видел или ему это снилось. И чем больше он вглядывался в окружающий его пейзаж, тем настойчивей к нему возвращалось это мучительное, беспокойное чувство. Он повернул голову и посмотрел на танк. Снова увидел обугленную ладонь, свисающую из башни. И Хольт вдруг вспомнил то утро, жаркое и душное, руины города и себя — беспомощного, пытающегося выбраться с пожарища. А потом, он помнил это прекрасно, он оказался в пустынной аллее, а рядом, на проезжей части, лежали опрокинутая повозка, убитая лошадь, круглая железная печка с высоко задранной в небо жестяной трубой и лоскутом человеческой ладони на ее верхушке, — ладони, похожей на ту, которая теперь свисала рядом, у него за плечами. Он вспомнил ужас, охвативший его тогда, и свой дикий бег по аллее с чемоданом в руке, и как он упал на дно воронки от бомбы, и как потом не мог из нее выбраться. Он поразмышлял еще немного, и это принесло ему некоторое облегчение: все повторяется снова, хотя совершенно при других обстоятельствах, и потихоньку в нем начало крепнуть убеждение, что в конце концов все окончится благополучно, как и тогда, ведь он все-таки вернулся домой целый и невредимый. Теперь он уже с нетерпением ожидал появления людей. Его до предела измотали переживания последних часов. Навалилась мучительная сонливость, набрякшие и тяжелые веки закрывались сами собой. Сопротивляться не было мочи. Силы его иссякли, и, скорчившись на краю ящика, низко свесив голову, дрожа от холода, он понемногу погрузился в полный видений сон.
Он был Дон Кихотом, Раубеншток — Санчо Пансой, а Гертруда — Доротеей; они втроем ехали верхом через выжженную солнцем пустыню, мимо воронок, пушек и покинутых стрелковых окопов, мимо ящиков от боеприпасов, разбитых танков и тел погибших в бою солдат. Гертруда неустанно рассказывала ему историю Доротеи, как будто это была ее собственная история. Он не привык ездить верхом, седло очень давило, а его старая кляча была такой рослой, что на Раубенштока он смотрел сверху, тем более что тот, по обычаю Санчо Пансы, трусил за ним на ослике. Ему все время приходилось покрикивать на Раубенштока и его осла — они не успевали за ним и Гертрудой и настолько отставали, что порою он совсем терял их из виду, и это приводило его в состояние крайнего раздражения. В конце концов он бы оставил их в покое, перестал обращать внимание на Раубенштока, но Гертруда просила не бросать Раубенштока одного. Поэтому он продолжал их звать и совершенно охрип от крика. Приближался полдень, когда они спешились. Солнце стояло уже высоко в небе и жгло в спину, натруженную железными доспехами, а Гертруда, она же Доротея, взялась первый раз за этот день готовить еду. Но, прежде чем приняться за завтрак, им надо было перебраться в другое место — трупы, лежащие на солнце, начали смердеть так ужасно, что они не могли проглотить ни куска. Раубеншток, который был Санчо Пансой, привязал ослика к винтовке, воткнутой в землю, и отправился на поиски какого-нибудь места получше, где бы они могли поесть. А Гертруда, или принцесса Доротея, снова принялась рассказывать ему странную историю о княжестве Микомиконе, чьей законной наследницей она была, и о угрюмом властелине Пандафиланде, который завладел ее княжеством. Он прекрасно помнил всю историю по книге и совсем не понимал, зачем Доротея, она же Гертруда, рассказывает ему об этом. А когда она потребовала от него поклясться победить Пандафиланда и вернуть свободу ее государству, это и вовсе озадачило его: такое требование — безумие, ведь он хорошо помнил, как печально кончается вся эта история в романе Сервантеса. Ее просьба так развеселила его, что он рассмеялся и хохотал до тех пор, пока у него не начались колики. Хотел растереть свой разболевшийся живот, но не смог — мешали доспехи. Когда он наконец успокоился и перестал смеяться, то пообещал Гертруде, которая была Доротеей, что прикончит Пандафиланда без всяких церемоний, тем более что за последнее время уже убил много людей и совершенно не испытывал по этому поводу угрызений совести. Раубеншток долго не возвращался. Лишь теперь они заметили, что его ослик тоже куда-то пропал.
Читать дальше