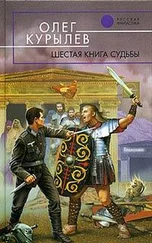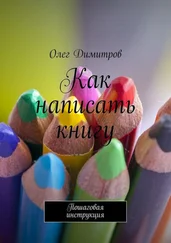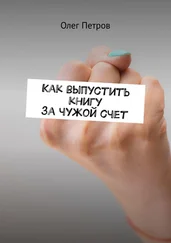За ужином мы с Джимом выпили немного вина. Я давно уже отвык от таких детсадовских порций и градусов, так что с легкостью могу отнести тот вечер к безалкогольным. К концу трапезы Джим озвучил свою просьбу, от которой все резко стало пресным., Нет, не то чтобы я был чересчур жадным или был против экономического подъема и криминального спада моего любимейшего города Нью-Йорк, ни разу до этого мною не посещенного, гори он в авиационном топливе. Просто я не был готов менять свою жизнь. Она мне как-то по своему нравилась. Она устаканилась, оббутылилась и накроватилась. В этот момент я остро понял, что очень люблю Джима, но у всякой любви есть свои пределы и я свой, кажется, нащупал. Я сказал, что уже поздно и надо подумать — надеясь тянуть время, а потом либо приобщить Джима к своему делу, либо подкинуть ему мысль о втором путешествии, тем более, что первое было таким увлекательным, что за время его пересказа я засыпал трижды.
Джиму я постелил на диване, сам лег на свою кровать смотреть в потолок, пытаясь в трещинках на отделке прочесть свою дальнейшую судьбу. Мои поиски и разглядывания прерывал звук дважды подъезжавшего лифта, который после шушуканий и хихиканий уезжал восвояси. К утру по всему зданию слышался веселый перезвон и стопятидесятый пересказ из уст в уши и так далее, полный скользких намеков и обросший подробностями туристского путеводителя.
Я же, бросив малоинформативный потолок, всю ночь определял, какой же я бок меньше всего отлежал, но, так и не определившись, встал с пустой и одновременно больной головой и все думал о словах Джима. Он просил меня ни много ни мало перестать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Джимми не объяснял причин своей несколько странной просьбы, впрочем, он открыто и не осудил моего бизнеса, но и не одобрял его, это уж точно. Я спросил тогда Джима, зачем ему нужно, чтобы я так поступил, а он ответил, что это нужно не ему, а мне самому. И на свой вопрос: «А что же я буду потом делать?» я смогу ответить и сам.
За завтраком Джим в несвойственной для себя и становящейся уже раздражительной новой для меня манере спросил, решился ли я. Нет, он не спрашивал, что я решил! Он интересовался, решился ли я! Типа того, что ответ и так ясен, осталось установить лишь для него срок исполнения. Наверняка так вызывали по утрам на вылет камикадзе из казарм, в которых невыносимо чадили печи. Заходил главный в противогазе в дым и спрашивал, решился ли кто тут? Кто решался — тех по самолетам и, как говорят казахи, алга — пихаться с авианосцами. Остальных снова запирали до утра, подкинув уголька в топки. Вроде и выбор есть, но все же какая-то обреченность присутствует. Внимательный читатель наверняка упрекнет меня в неправдивости рассказа, как это главный мог что-то спрашивать в противогазе — ничего же не будет понятно? Поясняем, что даже без противогаза внимательному читателю ничего не будет понятно, потому что командир — японец и спрашивал бы он, соответственно, на японском. А внимательные люди, да к тому же со знанием японского языка, вряд ли принялись бы за чтение написанной тут белиберды.
Я же на повторный вопрос Джима про решимость потупил голову, как провинившийся самурай и школьник в одном лице, забывший хокку, которое никогда не учил, и начал бубнить что-то невнятное под нос. Меня спас, как и тогда в школе — звонок. Тот был с урока, а этот из Нью-Йорка. Я подбежал к телефону и начал радостно: «Приветствую тебя, о, брат мой, Майки!» И вскоре закончил совсем в другой тональности с криком: «Чтоб ты сдох, жадная скотина!» А затем так прокомпостировал трубкой телефонный аппарат, что тот очень удивленно сказал: «Дзынь» и замолчал уже до конца своей недолгой пластмассовой жизни. Между моим приветственным и прощальным словами я услышал от Майки небольшую, но крайне познавательную заметочку из курса политэкономии о том, что «товар» (Майки продолжал по привычке конспирироваться) теперь очень сильно подешевел, потому что многие фермеры южных штатов, в том числе и любимого всеми Джонсонами Канзаса, перешли на промышленное выращивание конопли и она по себестоимости уже почти сравнялась с табаком. Так что если я хочу, то могу еще продолжать присылать ему товар в прежних, смешных, по его словам, объемах, и он готов как и раньше сам оплачивать его доставку, но в таком случае чемодан не будет прилетать уже никогда. Чем я ответил на его предложение, и вы, и телефон уже в курсе.
Я вернулся к Джиму и к завтраку с кирпичом в желудке, поэтому есть уже не хотелось вообще никогда. Джим молча посмотрел на меня, как смотрят лишь люди, все знающие наперед, а также мамы, смотрящие сверху вниз на своих пятилетних детей, которые не разбивали вазу — она сама… Я поначалу не замечал этого взгляда, потому что у меня перед глазами стояла, точнее ползала на карачках и просила прощения вся Америка, полыхающая адским пламенем. Джимми подлил еще масла в огонь, саркастически спросив: «Ну, что, ковбой, вышибли тебя из седла?» На что я закричал: «Да, да! Вышибли!» На что он своим уже обычным спокойным голосом, которым, я уверен, он убил за этот год многих, попросил не нервничать, и что он всего лишь попросил передать соль. Я как-то сразу смяк на выдохе, как воздушный шарик после близкого знакомства с розовым кустом, и просвистел:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу