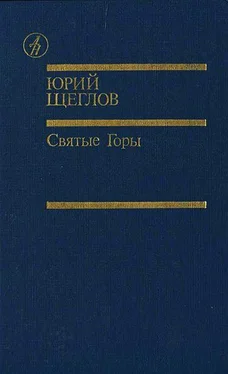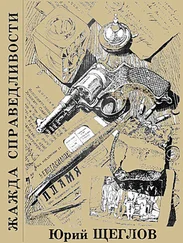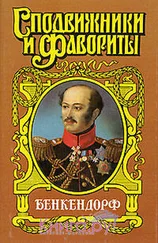Сейчас он упадет в постель, крепко зажмурит глаза и, забросив ладони под затылок, примется рисовать идиллические картинки времяпрепровождения с Наташей и ребятишками на лоне природы. Неясные мечты, сладкие воспоминания и размытые, как во сне, строки обрушат сверху, с потолка пенистый водопад забвения, который поглотит его без остатка, и он скоро погрузится во тьму, ощутив с детской радостью, как противные ледышки ног помаленьку теплеют. Очнется он поздно, когда лучи белого январского солнца тронут веки, раскрепощая скованное тело.
Да, да, теперь, когда письмо к де Геккерну кончено, он выполнит желание и заснет, заснет, заснет. Но прежде еще несколько мгновений подумает. Он любил, лежа на диване, воображать с подробностями, как наяву, бело-оранжевый, полыхающий под ветром березняк, бескрайней поле, растянутое кривыми проселками, горницу с косым подслеповатым оконцем, поющих девок в плотном ряду на лавке, снежную — волчком — вьюгу, поднебесные, окутанные сиреневой мглой скалы и черные ущелья без дна, в которые он — напоследок — нырял головой.
Он любил перед сном вспоминать, как свежее острое перо скользит по шероховатой поверхности, то свободно, то потрескивая от натуги, разбрызгивая вязь черных клякс к низу страницы. Он поежился от привычной боли в плече, будто занемело оно от конторки. Стосковался он по ней, по отполированному прикосновениями дереву, по необычайному цвету с золотистым отливом, животворному, не тусклому, меняющему оттенок в зависимости от освещения: днем одно, при свечах другое. Простые подробности земного существования были для него очень важны. Он научился извлекать из них спокойствие, равновесие, уверенность.
Внешнее благополучие не соответствовало внутреннему состоянию. Внутри бушевали таинственные силы природы, извергались вулканы, пели птицы, громко обменивались мнениями спорщики, волны разбивались о берег на тысячи капель, стреляли мощные мортиры, свистели пули, лошади топтали вскипающий под ветром ковыль, стоны раненых тревожили безмолвие ночи, на хорах мелодично играли музыканты, гирлянды белых и красных гвоздик распространяли аромат, звучали медью торжественные рифмы, девичий жаркий шепот подкрадывался к уху, странные и великолепные здания бесшумно вырастали из-под земли, и все эти случайные и разрозненные обломки мечтаний и действительности на следующий день обретали другую плоть, плоть, соотнесенную не только с мыслью, но и со временем, о котором он думал и писал. Зыбкое, фантастическое приобретало завершенные реальные формы, и казалось, что сон служил и впрямь мастерской, где господствовали свои суровые законы и порядки, где хозяйничала гармония и выковывался его чудесный стих.
Сколько суждено намарать, если он рачительно использует деревенскую ссылку? Здоровья маловато, но он пока не чувствовал ни слабости, ни бремени лет. В ссылке он так божественно расписался и, умудренный опытом, не спешил сейчас проклинать окружающее, ведь и петербургская суета, и московская скука, и безденежье, и борьба с Бенкендорфом, изнуряющая мелочностью, и женитьба, и ребятишки, и журнальные дрязги, и даже Колера Морбус с четырнадцатью карантинами, бездарными и надоедливыми, вышли ему первыми помощниками.
Он с трудом обуздывал себя и засаживал за стол. Поразительно, что после допроса у Милорадовича, больному, с взволнованным сердцем, в чиновной и пыльной — воронцовской — Одессе, в забытом богом и затопленном седыми дождями Болдине работалось привольнее, быть может, вдохновеннее, чем в самые светлые минуты на Мойке. Ей-богу, счастливее и легче.
Сбегая с уроков Куницына — Куницына особенно неприятно обманывать, потому и запало, — он рифмовал по лицейским закоулкам куда как лихо. Если что-то доводилось преодолевать — шум, например, или собственное недомогание, — писалось проще, душа между тем не уставала. В Царском он овладел такой редкой способностью. Да, все к нему пришло в юности, в Царском.
Спасибо, Царское! Спасибо, лицей!
Не раздевая сюртука, он лег на диван, сложил ладони и сунул их под щеку, как в детстве заставляла няня. Она натягивала шерстяное кусачее одеяло до горла и подтыкала под бок, чтобы тепло не улетучивалось. Ее мягкие пальцы еще долго ощупывали вслепую спину — проверяла, хорошо ли укрыт Саша. Добравшись до ног, она приподымала их, заворачивая в кокон. А потом снова ощупывала вздрагивающее тело. Он лежал молча, закрыв глаза, и мечтал о чем-то, постепенно опускаясь в сон, не сопротивляясь ему. Он знал, что утро вечера мудренее, а раз мудренее, то и лучше.
Читать дальше