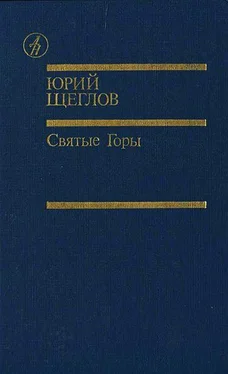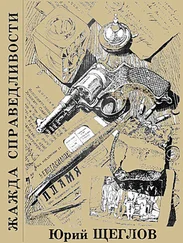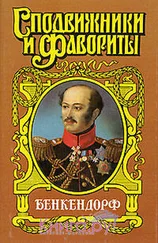Не отважился он и приняться за коренную перестройку собственного существования. По правде говоря, он и не знал, с чего надобно начать. Друзья осуждали его за расточительность, за стремление пробиться туда, куда слетались на пиршество его злейшие враги. Среди близких многие выбрали более праведный путь, но ему их назидательные советы не помогали. Он боялся нарушить привычное течение жизни, боялся, что дар его не выдержит тяжести и суровой дисциплины гражданских обязательств. А ведь гражданином надобно быть постоянно. Нельзя сегодня вести себя как свободный гражданин, а завтра — как верноподданный.
Но он, конечно, совершал смелые поступки, оставаясь все-таки собой недовольным, проклиная недостаточность и несовершенство своей оппозиции, двойственность своего положения, что угнетало его вольный дух, терзало сердце, унижало достоинство. Он знал, что единственное оправдание, если он во мнении потомков будет нуждаться в оправданиях, это умение нацелить себя на главное дело жизни — воплотить дар в тысячи, десятки тысяч строк. Среди них нет ни единой, которая бы писалась со злым умыслом. Если кто-нибудь на Страшном суде откажется признать его превосходство, нравственное, разумеется, над современным обществом, пусть обратит взор на вещи, им созданные, пусть сочтет долгие мучительные часы, проведенные им над тетрадью, пусть хоть на мгновение разделит с ним его тоску, такую тоску, которая вряд ли была кому-нибудь знакома. Она преследовала его с дней юности, она росла вместе с ним в Царском и сопутствовала ему везде.
Однажды, глядя из окна кибитки в безбрежный степной океан, он подумал, какое необъяснимое и ужасное явление — пустота. Он страшился пустоты, гнал ее от себя, и ему удавалось на мгновение избавиться от одиночества, но тоска не исчезала. Он видел жестокость власти, беспомощность народа, лакейство тех, кто правил, ложь, обман, измену, но у него не было второй жизни и не будет. И в этой — пусть дурной, пусть обидной! — жизни перед ним стояла единственная цель: освободиться от своего дара, перелить его в драгоценный сосуд. И наверняка — он верил в это свято — мир улучшится. Так он определил свое предназначение. Так некогда пророчествовал и Куницын: «Ты, Александр, богач. Ты обязан поделиться своим богатством. Если ты что-нибудь утаишь, грех на тебе первейший. Но помни, милый мой, давать может тот, кто имеет. Ты имеешь. Береги себя, цени свой дар, неси его в сердце и не расплескай по мелочам». Куницын выражался всегда высоко, правда, не всегда ясно. Однако главное он понял. Спасибо, Куницын, спасибо тебе, Царское — незабываемое — Село!
«Без официального успеха в нашей стране талант глохнет», — произнес он и даже обернулся, не подслушал ли кто. Мое эхо, отзвук моих мучений, моя песня не угаснет в ледяной пустыне. Ее подхватят миллионы людей, и какой-нибудь мальчишка в двухтысячном году отважится слагать стихи, как я, так же, как и я, желая стать сперва отзвуком великих, а потом и их соперником. Цепь жизни не прервется в моем звене, и когда я сброшу мундир, то буду писать с еще большей силой, с еще большей страстью, чем раньше.
Он замер на желтом островке, отвоеванном у тьмы бликами сочащегося из щели света, и, толкнув раму, распахнул окно. Показалось, что стекло мешает смотреть на пламенеющую белую звезду. Скользнул взором по дымчатому, вымороженному январем небу, глубоко втянул в себя отсыревший воздух, надеясь уловить дальние ароматы весны. Любил он серую матовую петербургскую зиму и голубую хрустальную болдинскую осень, но сейчас он мечтал о весне, терпкой зеленой весне, когда холодок хоть и пронизывает до костей, но зато лучи солнца начинают греть уже по-иному, чем в прозрачные морозные дни. Он нуждался в освобождении, которое приносит с собой мартовское тепло. Он не хотел думать ни о чем печальном — ни о надвигающейся дуэли, ни о Соловках, призрак которых гонялся за ним издавна, с той достопамятной беседы в кабинете у графа Милорадовича. Он опять вернулся к столу и поднес письмо к глазам. Достаточно ли он тверд? Да, несомненно. «Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы от отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец».
Нет, нет, после дуэли, должно, сошлют в деревню, то бишь в Михайловское, и тут-то примусь работать систематически. Утро буду начинать с прогулки, потом завтракать, потом за бюро. Пить буду исключительно колодезную воду. Летом устрою себе купания. Сяду опять на лошадь. Чудно потечет моя жизнь.
Читать дальше