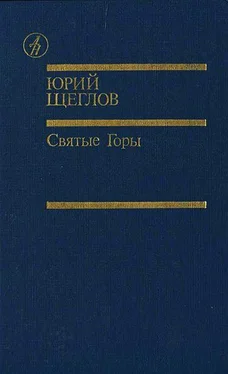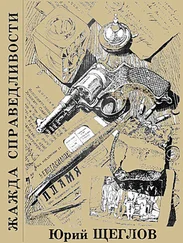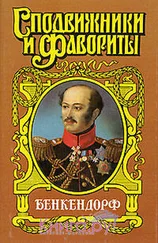Студенты довольно терпеливо его выслушали, хотя от времени до времени, да именно-то в самые «трогательные» моменты патетического этого спича, они не в состоянии были удержаться от громкого, довольно непочтительного хихиканья, которое никак не могло служить знаком одобрения и сочувствия. Это неодобрение-то и было ясно и кратко высказано Фаддею Венедиктовичу сениором Ливонии (фон-Энгельгардтом), который наперед уже был избран «спикером» экспедиции. Смысл его ответа заключался в том, что речь многопочтенного (vielehrenwerthen — это выражение в парламентарных спичах преимущественно употребляется в ироническом смысле. — Примечание мемуариста.) г. Булгарина совершенно противоречит неоспоримым фактам, т. е. доносоподобным его статьям, а потому, несмотря на неот-рицаемые риторические красоты его длинного спича, слова многопочтенного г. Булгарина, к сожалению, все-таки никакой веры не заслуживают, вследствие чего ответом ему может только служить: «Pereat calumniator»! («Да погибнет клеветник!» — Примечание мемуариста.) «Pereat! pereat! pereat!» дружно и неистово грянул весь хор. А затем бурши повернулись задом к фронту дома и к находившемуся на балконе Булгарину и ровным тихим шагом, с соблюдением прежнего церемониального порядка, возвратились опять в город. В то время, известно, светописание вообще не было еще изобретено, а способ «минутного снятия» и того менее. Об этом стоит однако же сожалеть, потому что фигура и физиономия многопочтенного г. Булгарина при неожидаемом им, после столь патетического его спича, повторении ему «овации» поистине заслуживали бы увековечения».
Трактир Людгардта был типично немецким, то есть приличным, с вышибалой-орангутангом у стойки и упитанной белокурой Гретхен, сидящей за кассой и поглядывающей на посетителей в зале, как римская матрона на толпу жалких рабов. Немецкие трактиры в Петербурге отличались тишиной, чистотой и олеографиями в дубовых багетах на библейские сюжеты. Полиция запрещала русским трактирщикам чем-либо подобным украшать стены, чтоб безобразия и прочие непотребства лики святых не зрели. Чуть что, и квартальный волок на съезжую непослушного хозяина.
Шлиппенбах и Пушкин заняли укромный уголок — на двоих — под сенью разлапистой пальмы, которую, очевидно, Гретхен аккуратно подвязала алой лентой. Так полагается, подумал Пушкин, в Магдебурге или Веймаре. В памяти всплыли рассказы Жуковского о путешествиях. Да, похоже на далекую Германию. Любят и не забывают свою родину… Карлово, передают, красивое имение, благоустроенное и свободное от долгов. Пруды, рощи, малинник. Подлец Булгарин, воришка. Чтобы выгодно редактировать газету или журнал, надобно непременно родиться жуликом, и совсем хорошо — доносчиком. Да, запах пива и сосновых опилок… В прокуренном воздухе витала немецкая рубленая речь, горячились исполосованные рапирами старые бурши и заливисто хохотала накрашенная и неумеренно декольтированная женщина. Между тем рядом царствовали тишина и покой. Уживались как-то с непринужденным солидным весельем. В одном уголке покой, в другом движение и смех.
Пушкин жестко растер ладонью лицо. Будто очнулся. Громадный, грубо сколоченный стол с разношерстной компанией заслонял их от нескромных взоров веселящихся. Спиной к Пушкину грузно облокотился на скатерть приказчик, по облику добрый молодец, однако во взгляде у него проскальзывало что-то разбойное. Рядом жался тощий музыкант в немецком платье, который держал между коленями футляр валторны. Несколько молодых людей коллеж-регистраторского и студенческого типа говорили вперемежку, когда шепотом, а когда и громко, но довольно бестолково и сбивчиво, и уж надобно было попасться на дороге Злодею Злодеевичу, чтобы обратить на их белобрысые и безусые физиономии с круглыми наивными глазами особое внимание.
Шлиппенбах пророкотал по-купечески, с придыхом:
— Пряников мятных да глинтвейна с цукатом господину архитектору, а мне жареных пирожков с ливером и полштофа на лимонной корочке. Катись!
Он не скинул шубу на подставленные половым руки и сел на скамью. Пушкин избегал немецкие трактиры с дней зеленой юности. Не нравился ему запах сосновых опилок, не нравились пирожки с ливером и тушеной капустой, от горького пива мутило, суп из бараньих хвостов вызывал представление о дешевом пансионе, а пустоватый чай — о сиротском приюте. Трубку он и сам выкурить не прочь. Вкус хорошего турецкого табака знает. Но кнастер… Бр-р-р… О, кнастер ему отвратителен. Что в сем сугубо немецком удовольствии отыскал великий Петр!
Читать дальше