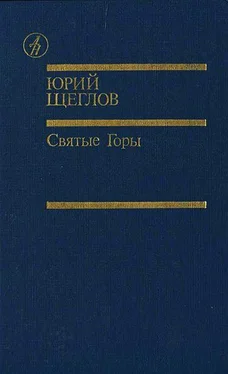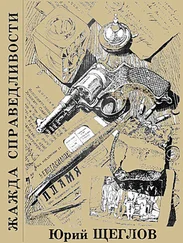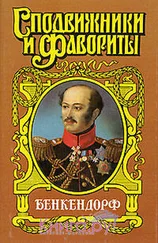Однако и второпях он уловил напоследок, с каким вопросом Бенкендорф обратился к Дубельту:
— Как ты мыслишь, Леонтий Васильевич, отчего выжига юлит? Ему-то с чего волноваться?
Булгарин опрометью бросился вниз по лестнице, забыв про неприятную боль внизу живота.
— Мой граф! Стоит чуть крепче нажать, и мы получим, чего желаем. За ту же умеренную цену. В мире нет ничего дешевле переметчиков, потому что, не стерпев прежнего хозяина, они вынуждены потом терпеть и худшего. Некоторое нахальство у Булгарина появилось, ибо в обществе после скандала в ноябре упорно распространяют версию, что Пушкина собираются сгубить. Слух этот устойчив. Булгарин — травленый зверек, страшится и краем сейчас задеть врага. При неосторожности на него первого падет подозрение. Пожалеем Фаддея Венедиктовича, он еще пригодится нам не единожды. Фельетон принесет, не понадобится, бросим в корзину.
— Хорошо, докладывай по существу.
— Дело бывшего Пушкина абсолютно не политическое, — сказал Дубельт. — Фальшивые ассигнации. Осужден в Соловки. Мельгунов, вологодский и ярославский генерал-губернатор, имел секретную переписку по сему поводу с архимандритом. Ее величество государыня императрица собственной персоной надзирала за точным исполнением приговора через лифляндского генерал-губернатора Броуна и князя Волконского. Ничего любопытного, окромя выражения, годящегося нам: бывший Пушкин.
— В Соловки? Небезынтересно. Ах, вот почему государь… А что там в Соловках нынче?
— Келью удобную, коли понадобится, найдем, ваше сиятельство. Чтоб после не сетовали — дескать, сгноили!
— Не торопись, Леонтий Васильевич, успеешь. Ты привез последние новости?
— Привез, ваше сиятельство. Но ничего серьезного.
— А в донесениях наружных агентов?
— Еще меньше. Все пережеванное. Гуляет по улице, пишет, супруга утром ездила к Строгановым.
— Подробнее, мой друг, подробнее.
— Кое-кому про историю рассказывает. Жену не винит. Дома покой, тихо, как перед извержением Везувия. Себя же возносит на место бога и государя, объявляя громко Жуковскому персону свою единственным — какова наглость! — судьею собственных поступков и поступков супруги-с. О спорах с Василием Андреевичем сообщено мне из трех источников. Очевидно, отступать не намерен, да и не позволят ему. К международным осложнениям относится скептически, напирая на частный характер схватки.
— Каково положение в посольстве?
— Суета. Старик сегодня ездил к Нессельроде с жалобами на сплетни. Тот погладил по головке, слезы осушил, да и выставил под предлогом аудиенции во дворце.
— Что происходит в салоне у Марии Дмитриевны?
— Беседы, вздохи, ничего существенного, жена молодого барона в слезах. И со всех сторон требование прекратить историю, воздать должное чувству молодых людей, осудить ревнивца. Некоторые отвращают свой взор от дома Пушкиных.
— А что наша красавица?
— Мечется, угла себе не находит. С сестрицей о чем-то толковала.
— О чем?
Дубельт развел руками.
— Жаль Гончаровых, не за того выдали, — вздохнул Бенкендорф. — Ей бы в генеральшах самый раз. Ну да ладно. Дело поправимое.
— Судьба! — отозвался Дубельт. — Судьба!
— Если состоится, то где? — спросил Бенкендорф.
— В ноябре предполагалось на Черной речке, больше негде. Места знакомые, дуэльные…
— А ты готов, Леонтий Васильевич? — вскинул глаза Бенкендорф. — Фельдъегеря возьми крепкого, чтоб земля под ним стонала. Вельша, что ли? Людей верных выдели, толковых: Прохорова, Пахомова. Ну, с богом! Да, забыл. Сгоняй фельдъегеря вот с этими бумагами в Одессу, к Михаиле Семеновичу. Ты молодец, Леонтий Васильевич! Черная речка… Умно, умно… Везет тебе. Прекрасное совпадение. Ну, вроде все. С богом!
— Ваше сиятельство, — растроганно проговорил Дубельт, — мой граф… Александр Христофорович… Позвольте выразить вам… Под вашим руководством…
Бенкендорф улыбнулся.
— Ну иди, иди, трудись. Приезжай с Мордвиновым после ужина, когда я вернусь. И запомни, тут метода нужна, мелочиться начнешь, узду отпустишь, сомнут. Я тебя хвалю.
Бенкендорф расстегнул сюртук, вытер платком шею и отправился в гардеробную переодеваться перед посещением мадемуазель Эвелины. Краткие визиты к ней не отменялись ни под каким видом.
А Булгарин долго стоял в небрежно наброшенной на плечи шубе, привалившись к фонарному столбу. В лицо ему бил свежий, почти весенний ветер. По тротуару барабанила стекавшая с козырька над крыльцом капель. Мимо ехала подвода булочника, распространяя опьяняющий запах свежеиспеченного калача. Густая хлебная струя вскружила голову и потянула за собой вдаль, за тридевять земель — в Испанию. Боже, как он там голодал, чего натерпелся, особенно под Мадридом и Сарагоссой!
Читать дальше