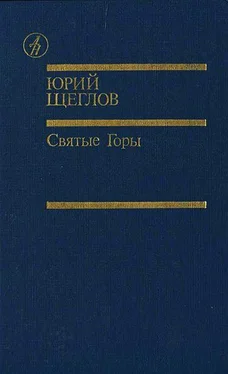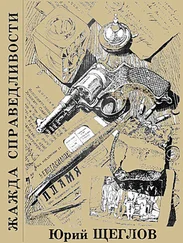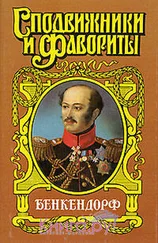Сам Дантес не ожидал высылки. Он надеялся, что получит назначение на Кавказ или какое-то время посидит в крепости. Отъезд в Европу был для него дорогим подарком. Граф В. А. Соллогуб вспоминает: Дантес говорил, «что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать что хотят: на Кавказ, в крепость, — куда угодно». Куда угодно — это родовое имение в Сульце.
Пушкин напрасно надеялся, что дуэль принесет ему успокоение и он получит возможность продолжить литературную деятельность. Епитимью он бы отмучивал не в Киеве и не в Михайловском, а на Соловках или в другом дальнем монастыре. И Сибирь, и Кавказ были переполнены «своими». Николай I понимал, что дуэль для Пушкина — тупик.
Дурно, дурно, отвратно. Только полная и совершенная месть, которая опрокинет де Геккернов в грязь, принесет крупицу удовлетворения. Погоди, Пушкин, разве ты собираешься отомстить? Ведь ты прекрасно знаешь, что никому отплатить нельзя. И воздать по заслугам тоже. Никому. Ты защищаешься и, защищаясь, должен восторжествовать. Достойная мысль, умная, и ее не оспорить. Сейчас он попытался заглянуть в будущее. Смерть или тяжелая рана повесы не принесет радости. Смерть оградит старую сводню от позора. С ним же разочтутся другим способом. Нет, он не упадет на колени. Он поэт и останется поэтом. Декабристы перетерпели и выжили на каторге только потому, что прошлое — привычное, милое сердцу прошлое с петербургскими и московскими улицами, квартирами, с красавицами женами и невестами, с шумливой оравой девчонок и мальчишек, с гувернерами и гувернантками, с поварами и тройками, с ломберными столиками и домашними библиотеками, с материальными заботами и канцелярской службой, с тайными сборищами и блестящими вахтпарадами, с мечтательными ночами и серьезной работой на пользу обществу, с немудреными веселыми танцульками и даже с вдохновенной Сенатской и ее жертвенным стоянием под картечью, с ее отчаянным бегством по льду, разбитому ядрами, — это великое и малое прошлое утратило над ними свою могучую власть. Он не предполагал, что ему суждено будет воспользоваться сим страшным уроком. И он отряхнет власть прошлого, как прах у входа в новую жизнь, жизнь после дуэли.
Он первым в России вослед императору Александру Павловичу, умному и лукавому повелителю, которого, правда, обучили французские вольнодумцы, сообразил еще в младые годы, что литература может легко подменить оппозицию, обычную для европейских государств. Да что там оппозиция! Она в силах и тюрьмы сокрушать, бастилии да Петропавловки.
Хитрая бабка нынешнего самодержца мнения о том себе не сумела составить, хотя кокетничала с ферней-ским затворником. Женщина! Она была уверена, что власть — это пьяные и потные лейб-компанцы, дюжие полуграмотные дворянские недоросли в малых чинах, перед которыми ежели вильнешь юбками, даже не всегда раздушенными, так они вздернут на штыки, кого пожелаешь. Умна, не отнимешь, а до сути не докопалась. Впрочем, время тогда не подоспело. Ну какой властью располагал Державин? Какую ему дали, не больше. С Новиковым получилось сложнее. Недаром при его имени Николай Михайлович Карамзин смолкал, белел обличьем. Редко и шепотом поминал о приятном и полезном знакомстве, но, к чести его употребить, поминал благоговейно. Радищев — последняя и самая высокая ступенька передо мной, думал Пушкин. Самая высокая. Задушили — без жалости, наиздевавшись вдоволь. И все тут. Чистое дело голубец! Писал не очень складно, ну да где ему было обучиться? Что им поэт? Что им его вселенская слава! А между тем власть-то у литературы не простая — волшебная. Власть над умами.
Внезапно мысль снова отбросила его к де Геккер-нам. Непостижима цепь ассоциаций! Пожалуй, старая сводня не исхитрилась бы проникнуть без Дантеса ни к Трубецким, ни к Барятинским, да и круг императрицы был бы для него недоступен. Дантес открыл посланнику многие двери. Но, несомненно, тайна гнездится не только в том. Он должен ее расшифровать и должен сказать о ней громко. Он напишет сегодня письмо и покончит с де Геккернами, со всей мерзостью, которую они внесли в его семью.
Изогнувшись от услужливости и поглядывая искоса на пудовые кулаки Шлиппенбаха, половой снял с подноса угощение. Пушкин отхлебнул глоток горячего глинтвейна, и огненная жидкость потекла, обжигая внутри. Он даже крякнул, как от ледяного кваса или рассола наутро после жженки. Шлиппенбах, прожевывая пирожок и что-то бормоча, улыбался. Пушкин не внимал его речам. Он смотрел на соседей, очевидно, завсегдатаев, и они ему нравились какими-то почти неуловимыми чертами. Из-за ближнего столика раздался возглас:
Читать дальше