Вот и сейчас такое же ощущение.
На следующий день после обеда я снова прихожу к Гильермо в студию – ему, похоже, плевать, что сейчас зимние каникулы, а мне как раз хочется находиться только здесь – но на двери я вижу записку: «Скоро вернусь – ГГ».
Все утро, посасывая лимоны против Оскаровых чар, я изо всех сил прислушивалась в надежде, что мой тренировочный камень скажет мне, что в нем. Но пока ни слова. Как и между нами с Ноа; сегодня утром он исчез раньше, чем я проснулась. А заодно и вся наличность, которую папа оставил нам на случай чего. Ну, блин, и фиг с ним.
Вернемся к очевидной насущной опасности: к Оскару. Я готова. Помимо лимонов я почитала обо всяких особо омерзительных венерических заболеваниях. А потом еще и библию:
Люди с глазами разного цвета – двуличные ублюдки.
(Да, это я дописала.)
Вопрос с Оскаром закрыт.
Я быстренько прохожу по коридору и, к своей радости, обнаруживаю в почтовой комнате одну только бабушку. Одета она просто потрясающе. Прямая юбка в полоску. Винтажный цветастый свитер. Красный кожаный ремень. А на шее дерзко повязан шарф в огурчик. И все это увенчивается черным фетровым беретом и очочками, как у Джона Леннона. Именно так я бы и оделась в студию, если не была обречена постоянно ходить, как корнеплод.
– Идеально, – говорю я, – настоящий шебби-шик.
– Шика достаточно. Термин шебби оскорбляет мои чувства. Я во время Лета Любви битниками интересовалась чуть более, чем… Все это искусство, бардак и хаос, таинственные иностранцы, с которыми я чувствую себя полностью раскрепощенной, абсолютно готова отбросить все предосторожности, совершенно дерзкая, совсем…
– Я все поняла, – отвечаю я со смехом.
– Я в этом сомневаюсь. Я собиралась сказать совсем, как Джуд Свитвайн. Помнишь ту неустрашимую девчонку? – Она указывает на мой карман. Я вытаскиваю огарок свечи. Бабушка недовольно цокает языком. – Не надо использовать мою библию в таких унылых целях.
– У него девушка есть.
– Это ничего не значит. Он европеец. У них другие нравы.
– Ты что, Джейн Остин не читала? Англичане более скованные, чем мы, а не менее.
– Уж что-что, а скованным его не назовешь. – Бабушка подмигивает всем лицом. Делать это едва заметно она не умеет. Она вообще не умеет быть едва заметной.
– У него трихомоноз, – ворчу я.
– Ни у кого этого нет. Никто, кроме тебя, даже не в курсе, что это такое.
– Он слишком стар для меня.
– Слишком стара только я.
– Ну тогда он слишком соблазнителен. Просто чересчур. И знает об этом. Ты видела, как он прислоняется?
– Что-что?
– Как прислоняется к стене, словно Джеймс Дин, прислоняется, – я по-быстрому демонстрирую это у колонны. – И мотоцикл у него такой. И акцент, и глаза разноцветные…
– У Дэвида Боуи разноцветные! – бабушка возмущенно вскидывает руки. Она его прямо обожает. – И если ему мать тебя напророчила, это счастливый знак. – Лицо у нее смягчается. – К тому же, милочка, он сказал, что у него от тебя мурашки по коже.
– Да у меня такое чувство, что у него и от своей подружки мурашки по коже.
– Как вообще можно судить парня, пока не сходишь с ним на пикник? – Бабушка разводит руками, словно готовится обнять весь мир. – Собери корзинку, выбери место и вперед. Все очень просто.
– Это так старомодно, – отвечаю я. Заметив на стопке писем блокнот Гильермо, хватаю и быстренько листаю в поисках писем к Дражайшей, но их нет.
– Какой человек, у которого в груди бьется сердце, так отзывается о пикниках? – восклицает она. – Джуд, если ты хочешь, чтобы в жизни творились чудеса, надо уметь их видеть. – Раньше бабушка это часто повторяла. Это самое первое, что она занесла в библию. Но я не из тех, кто видит чудеса. А последняя ее запись такая: Разбитое сердце – это открытое сердце. Я каким-то образом знаю, что написала она это для меня, чтобы мне было полегче после ее смерти, но это не помогло.
Подбрось пригоршню риса, и сколько зерен упадет тебе обратно в руку, столько людей тебе суждено полюбить в жизни.
(Пока бабушка учила меня шить, она вешала табличку «закрыто». Я сидела за столом в закутке магазина у нее на коленях и дышала цветочным ароматом ее духов, а она объясняла мне, как разрезать ткань, драпировать, делать стежки. «У каждого есть свой один-единственный, для меня это ты», – говорила она. «Почему именно я?» – всегда спрашивала я, а она тыкала мне локтем под ребра и говорила какую-нибудь глупость вроде: «Потому что у тебя очень длинные пальцы на ногах, разумеется».)
У меня в горле растет комок. Я подхожу к ангелу и, нашептав ей свое второе желание, – ведь их полагается три, да? – возвращаюсь к бабушке, стоящей перед картиной. То есть это не бабушка. А ее призрак. Есть разница. Этот призрак знает о бабушкиной жизни лишь то, что знаю я. Вопросы о дедушке Свитвайне – который ушел от нее, когда она ждала папу, и так и не вернулся – остаются без ответа, как и при жизни. Столько вопросов остается без ответов! Мама говорила, что, когда любуешься искусством, ты наполовину смотришь, наполовину мечтаешь. Так же, наверное, и с привидениями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





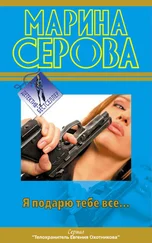

![Кира Лайт - Я подарю тебе вечность [СИ]](/books/395336/kira-lajt-ya-podaryu-tebe-vechnost-si-thumb.webp)




