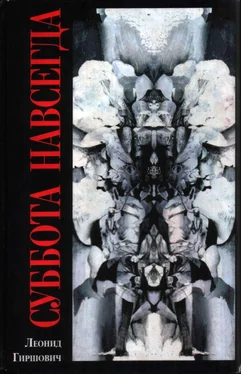Эдмондо никогда до конца не оправится от пережитого, но физически окрепнет настолько, что поступит на службу к басорскому паше, добровольно перейдет в ислам и под именем Селима выдвинется в число самых отважных и кровавых военачальников своего времени. Следующий поворот винта вознесет его на Басорский трон.
И каким судом вы судить будете…
Демократия не лучшее государственное устройство. Даже без всяких «но». Ибо, говоря, что ничего лучшего покамест человечество не измыслило, подразумеваешь под «человечеством» народы, взысканные особой благодатью. Сии отряды землян вкусили от древа прав человека. В местах компактного проживания людоедов, как в прямом, так и в переносном смысле, демократия предполагает людоедство, узаконенное народным волеизъявлением. А теперь «но». Но даже в людоедской демократии узник — тот, кто преступил закон, пускай и начертанный на скрижалях каннибализма. Тогда как при самодержце узник — собственность его величества.
Как бывают любимые игрушки, так бывают любимые узники — они всегда под рукой у государя. Вспомнил, поиграл, снова спрятал в ящик. Такими ящиками служили подземелья или башни королевских замков. (Для сравнения — странного сравнения: кто-то хоронит своих мертвецов у церкви, а кто-то «брезгует совмещенным санузлом» и роет могилы за городской стеной.)
Преступную ханум , горе-евнуха и остальных заговорщиков заточили в самом дворце — в республике людоедов их, если б даже и сожрали, то это непременно была бы «фидития», общественная трапеза. А так гиляр-ага был вправе воскликнуть, адресуясь к року: «Обнес меня ты сладким в очередь мою». Он — естественный преемник Осмина. Как в вазочку с десертом, воткнул бы он тому в пупок спицу бенгальского огня… Мечты, мечты… Вся ваша сладость достанется арамбаше. Уплывает полусфера Селимова живота, белого, подрагивающего… Ну, бланманже чистой воды.
У кого волосы редкие, а у кого щи жидкие — к сокрушенным вздохам белого евнуха прибавилось сопенье его черного собрата.
Блондхен была само мужество, пока ее заковывали в цепи, но когда увидела в цепях Констанцию, то закрыла глаза и две горькие слезы выкатились из-под опущенных век.
— Я с тобой, Блондиночка, — тихо произнес Педрильо.
Благодарно кивнула.
Казалось, только Бельмонте с Констанцией счастливы. Их глаза сияли, их лица выражали восторг. Они как будто не слышали ударов молота, не чувствовали тяжких уз.
— Бельмонте, моя любовь… — слетело с уст девушки.
Селим же паша смотрел на нее так, словно спрашивал: «Дэвушка, вы адын?»
— Констанция, любимая, ты чувствуешь, больше нет нас — я, единая душа… чудо… чтобы такое совершилось еще на земле…
— Такого не бывает, — сказал паша, по-прежнему не сводивший с них глаз. — Через несколько часов я вам это докажу. Осмин!.. Ты меня понял? Такую пытку, чтоб по ней захотелось кино снимать. Для тебя это последняя возможность пережить грядущий день.
Факельное шествие из Реснички — напуганной, оскверненной присутствием не тех промежностей — направилось в юго-западную башню Алмазного дворца. В душе арамбаша предпочитал юго-запад другим направлениям.
Охранявших было во много раз больше, чем охраняемых. Сам арамбаша с голой саблей на коленях восседал перед надежно запертой дверью. Собрались также и все гайдуцкие офицеры, в каждой руке у них было по заряженному пистолету. Гайдуки же войники прохаживались, кто с ружьем, кто с шашкой, кто с пикой. В случае тревоги этот ночной дозор перебил бы друг друга в два счета.
По ту сторону двери картина висела иная. Констанция своими нежными пальчиками перебирала звено за звеном толстую чугунную цепь. Ее ангельская головка склонилась на плечо Бельмонте, золотистые пряди струились по его груди. Он приложил к сердцу ладонь — звездою Счастья I степени, а другой рукою обвивал стан своей возлюбленной, до того тонкий, что обвить его можно было бессчетное количество раз. Взгляд обоих одинаково воспарял к небесам, как у исполнителей па д’аксьон из «Спящей красавицы» — на фотографии, выставленной в витрине театральных касс на Невском. Боже!.. Боже!.. Что с нами? Подходит к концу наша история? Но, возможно, эти глаза стартовали к звездам с афишной тумбы, что перед ганноверским театром. Все спуталось: оперные театры, города, страны, десятилетия, века. Петр Ильич в Ганновере, совершенно пьяный, начал сочинять «Спящую» (дневниковая запись датирована временем, когда на ганноверских улицах нельзя было встретить велосипедистов — даже одиноких; их отделяет от этой записи столько же лет, сколько последнюю отделяет от автографа, сделанного рукою Моцарта). О чем, писатель, пишешь ты эту книгу и кому адресуешь ее? Я адресую ее в любом случае не тебе. Я окружил себя зеркалами, в которых вижу свои бесчисленные отражения в прежних поколениях. Отовсюду несется: «Знаешь, как хочется жить тому, кто мертв?»
Читать дальше