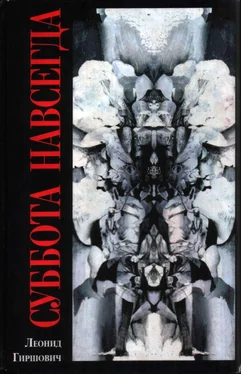Было три часа пополудни — время, когда в Толедо шофар возвещает конец сиесты. Констанция никогда не тосковала о прошлом, подтверждая этим правоту Блондхен, называвшей ее «своей душою». Еще на страницах предыдущей части говорилось: душа — вне экспресса времени, мчащего тела из прошедшего в будущее, ее местопребывание — настоящее, которое поперек движения поезда.
Ах, Констанция… Морской вид, когда море незаметно переходит в небо, воспроизводил ее готовность, клятвенно подтвержденную, вот так же незаметно переступить грань жизни, если эта грань в лице паши навсегда разделит ее с Бельмонте. Птичьих свадеб над Басрой не бывает, но следить в ее небе полет одиноких птиц отвечало состоянию души той, что и сама была птицей такого же полета: глядишь, еще несколько взмахов израненных крыл, и обе одновременно рухнут в чуждые волны, дабы быть выброшенными потом на берег пустыми обезображенными телами… слезинка скатилась по щеке. Из таких глаз, с затуманенным взором, слезинки рождаются, как жемчужина из раковины: одна в столетие.
— Immer noch im Tränen? Sieh, dieser schöne Abend, diese bezaubernde Musik… — но, словно спохватившись, паша дальше заговорил по-русски.
Погруженная в свои мысли, Констанция не слышала, как он приблизился к ней. Она и сейчас не слушала его, только смотрела — на эту аккуратно подстриженную бороду, посеребренную инеем не одной тревожной зимы, на эти толстые шевелящиеся губы, на блеск перстней, в которые продеты изуродованные не то пыткою, не то в сражениях пальцы. Суровое прошлое выдавали и шрамы на лице, и спорившие с ними глубокие морщины, и пустой, словно забитый землею рот. Пышные восточные одеяния, предполагающие расслабленность, изнеженность тела, гляделись на нем, как на каком-нибудь Емельке Пугачеве — горностай. Нет, он положительно приковывал к себе ее взгляд. Клейменый раб с ног до головы в виссоне и шелках… Вообще-то к таким женщины — сумасбродные юные патрицианки — способны проникаться чувством, сопоставимым с отвращением лишь по своей остроте… М-да-с. (Сим междометием — а ведь запомнилось? — мы напоминаем о той закавыке, с которой юные сумасбродки непременно столкнулись бы на путях охватившей их страсти, закавыке, столь же мало вязавшейся с их представлением о насильнике-янычаре, сколь мало образ последнего вяжется с драгоценным нарядом захлебывающегося в роскоши царька.)
— Ты не слушаешь меня, — проговорил Селим-паша, непонятно, с гневом или с горечью. Одно дело — вызвать гнев паши, и совсем другое — горечь, которую можно уподобить хорошо настроенному кюю в руках искусной инструменталистки.
— Слушать незнакомца? Мы не представлены. Наречь значит познать. Уразуметь смысл ваших слов, сеньор, я смогу не раньше, чем ваша милость себя назовет. Если вашей милости так же хорошо знакомы обычаи моей родины, как и ее язык…
— Молчи, ни слова больше! Мне знакомы те языки, на которых молили меня о пощаде: греческий, болгарский, испанский, персидский, албанский, тюркский, немецкий… Но не было пощады. Ты сказала: наречь — сиречь познать. Как твое имя, девушка?
У Констанции подкосились ноги — сиречь сделались как их отражение в морских зыбях, на которых покачивается кораблик, золотистый, золотой. (Мы сохраним тебя, арабская речь…)
— Я знаю, вы — Селим, басорский паша, который верит…
— Твое имя, девушка!
— Который верит… — зревший в горле раскаленный ком мешал Констанции говорить, — который верит, что раба Божия может быть рабою человека!.. Что птица может взлететь вместе с клеткой!..
— Раба Божья — а дальше? Имя?
— А дальше пусть высекут «Констанция».
— Констанция… Нечеловеческое имя. Я готов слушать его по целым дням… Певцов!
Выбежал хор, готовый по первому же изволению исполнить все на свете, от «Легконогой серны Атласских гор» до «Аппассионаты». («Appassionata — wspomnienia dawnyh dni, appassionata — melodia szczescia chwil».)
— Вариации на Constantia ostinatissima.
Хор вздрогнул и по взмаху ресниц своего первого сопрано запел. Вы знаете, как поют «Вечерний звон» — а басы делают: «Бум! Бум!» Здесь же пелось: «Констан! Ция!» За отсутствием басов.
— Назвать значит познать, говоришь ты?
Он взял ее руку. Не взял — схватил. Это была самая узкая ладонь в мире, и пальцы были, какие бывают на изображении индийской богини любви — гибкие как стебли. На безымянном — неопознанном — тоненькое колечко в форме крестика. Это мог быть и серебряный голубь, только не тот, что снисходил однажды на русскую литературу, даму хотя и прекрасную, но весьма порочную, чтоб зачинать столь безгрешным способом.
Читать дальше