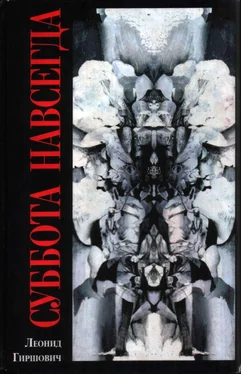— Меня пугает быстрота, с которой ты находишь ответы. Девушка, это свидетельствует не в твою пользу.
Констанция потушила взор ресницами. Давно ли она ликовала: еще день жизни — и раскачивалась на качелях все энергичнее, все выше, все запрокидистей — вот тоже слово: хоть и не понравится, да запомнится, а потом когда-нибудь вспомнится и слюбится. Очень многое так, из давеча ненавистного, теперь насвистывается и с радостью припоминается. А что до ликующих душ, для которых нет малых побед, то известно (или, наоборот, мало кому известно): чем крупней победа, тем меньше находится места ликованию. И неважно, что «победа всегда победа, всегда равна себе» (Салах эт-Дин), Констанция была не из тех, кто изучил науку соответствий — науку, рожденную в недрах чалмы, тюрбана, фески.
— Ты хорошо умеешь качаться на качелях, — сказал хрипло паша. — Итак завтра вечером ты должна меня полюбить, — он быстро вышел из каюты.
Тут заиграла музыка («bezauberende Musik»), и рев ее не прекращался ни на мгновение. Снова Констанция не почувствовала, как морская прогулка превратилась в сухопутную. Двухместный страусовый паланкин плыл не морем, а над морем голов, так же тихо покачиваясь. Она зажала уши, чтобы не слышать «Констан! Ция!» — в тысячный раз.
Ей вспомнилось: «Только подумай, на скольких языках будут благословлять твое имя…» — и две страдальческие морщинки взошли меж бровей. Чего бы она сейчас не дала за мелодию Глюка! Или просто тишины…
Блондиночка входила в свиту ханум, и у ней тоже были персональные носилки — открытые. Глядя на золотую чаинку в море, она трепетала. Что́ хан… в смысле паша? Кабальеро ли он? Педрильо обнадежил ее. Ему видней, он мужчина — она по-доброму усмехнулась.
Когда грянули серенаду, она с облегчением вздохнула: возвращаются. Любое известие лучше неизвестности — так всегда себе говорят. Непонятно только, по малодушию или наоборот. И торопят похоронку, а уж когда ее вручат, там не сравнивают, что лучше, страх пополам с надеждой или неразбавленное вино печали.
К хору присоединился оркестр, чья мощь нарастала по мере приближения судна — неважно, что оркестр стоял на пристани (этакая картинка Эшера).
Но затем с Блондхен случилось по анекдоту: автобус поедет дальше, а вы пойдете со мной (кому знакомо не по анекдоту — тех уж нет). Процессия двинулась в одну сторону, и только ее носилки — в другую, следуя невидимому знаку и тем более неведомо — чьему. Хирургическая маска, за стенами гарема всегда прикрывавшая ей лицо, давала с ее собственного дыхания сдачу влажным теплом. Сейчас почему-то учащенно. «Что за катарсис? — спрашивала она себя. — Кто и почему приказал отделить Душу от Тела? Схвачен Бельмонте? Разоблачена Педрина?» Мысли, теснимые ужасом, в панике бегут к кораблям, которых нету, нету в природе. Ужас — это гимнастерка, лампа в лицо, краснознаменный ансамбль песни и пляски смерша. Господи, неужели где-то на земле есть Англия!.. И с криком: «Ich bin eine Engländerin, zur Freiheit geboren!» — мисс Блонд очутилась перед Селим-пашой.
Что у него будет лицо злобного солдафона, испещренное сабельным письмом, — этого она не ожидала никак. Она сочла, что перед ней один из тех полулюдей-полуживотных, которые блюдут безопасность дворца. Казалось, над верхней губой — несмотря на свою толщину, неспособной скрыть недостаток зубов — у него выстрижено: оставь надежду всяк сюда входящий. (Куда сюда, в рот, что ли? На самом деле это был незараставший след от мадьярского кистеня.)
— Zur Freiheit geboren? — переспросил паша, с младых ногтей любивший пересыпать свою речь иностранными словами. — Не смеши меня. Где ты видела свободных людей? Я — паша Селим, полновластный правитель Басры, все боятся меня, все трепещут меня. Но и я раб — раб своей рабыни. Расскажи мне все про нее, помоги мне завладеть ее сердцем. Ты знаешь, кем ты будешь после этого?
— Вы Селим-паша?
— Я был Селим-пашой. Теперь я осел, влюбленный в Констанцию по самые ослиные уши. Говори же.
— Что я должна сказать? Если правду, то доны Констанции вам не видать, как своих ушей, хоть они теперь у вас и ослиные.
— Дура! Я по-хорошему, под маленьким язычком пламени ты поделишься со мной самым своим сокровенным. Хочешь попробовать?
— Пытать служанку той, в кого влюблен, действительно, может прийти в голову только ослу. Извините, ваше величество, но монаршие почести я готова воздать только конституционному монарху.
— Да ты просто грубиянка. Мне никто не грубил, начиная с 1635 года.
Читать дальше